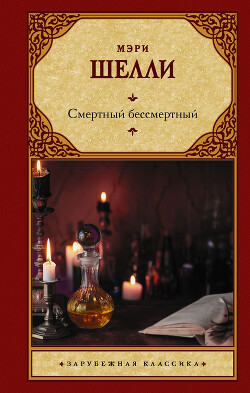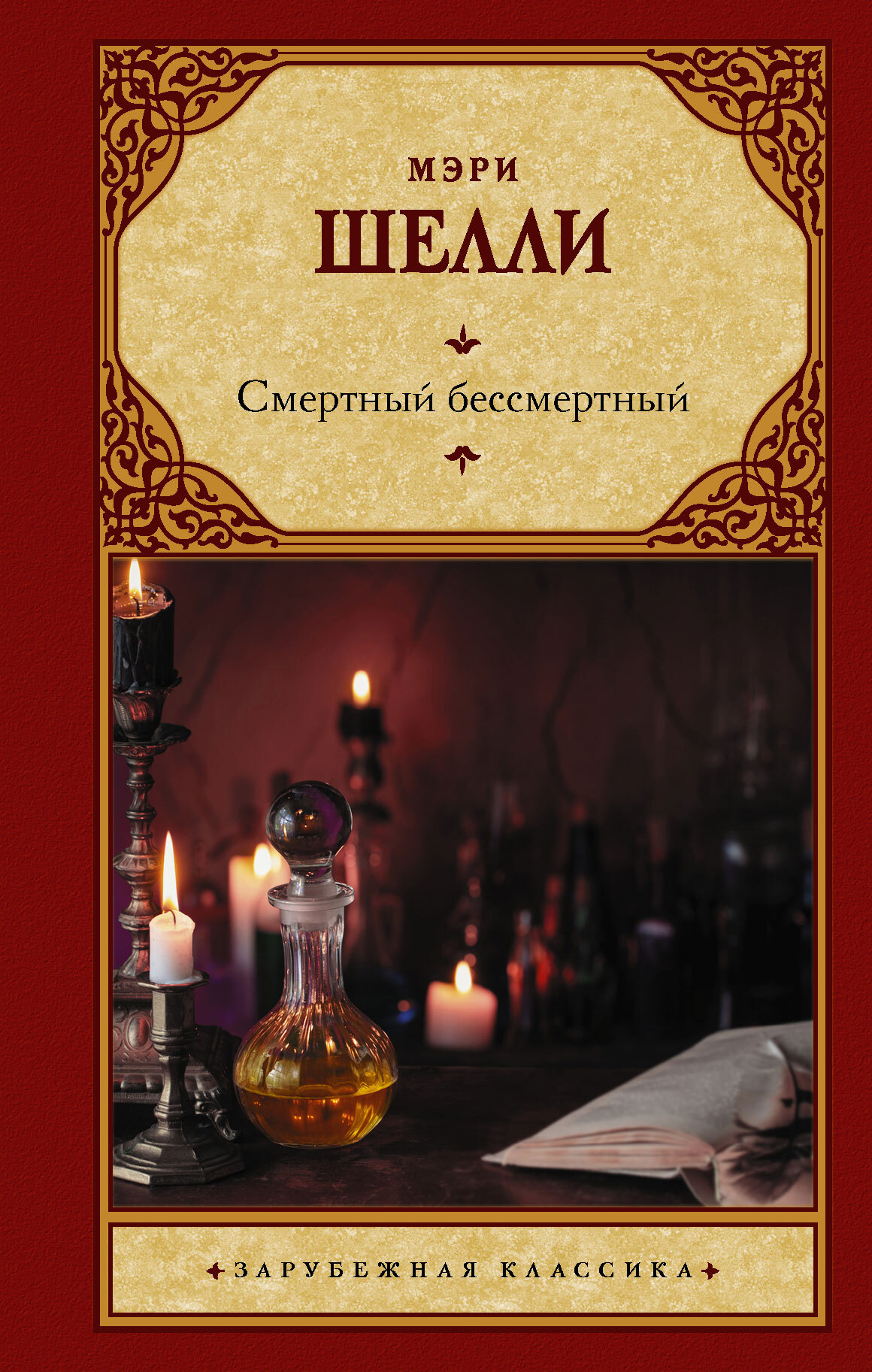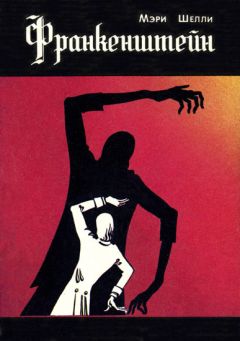Наутро, когда я готовился к возвращению в замок, один из приближенных объявил мне, что сам герцог явился в наш лагерь и ищет со мной немедленного свидания. Я вышел ему навстречу – и Бертольд, с улыбкой поспешив ко мне, первым протянул руку в знак примирения. Я искренне пожал ему руку, не подозревая, что за обман скрывается за этим открытым, дружеским жестом.
– Друг мой, – заговорил он, – ибо так я должен вас называть; не могу не восхищаться вашей доблестью в этом сражении, хоть и готов убедить вас, что в ссоре с этими дерзкими горцами правда на моей стороне. Но, пусть вы и победили в неправой борьбе, в которую, несомненно, были вовлечены лживыми жалобами этих негодяев, я ненавижу длить раздоры – вот почему хочу покончить с этой враждой и предложить вам дружбу, от которой никогда не отрекусь. Прошу вас в знак доверия к собрату-воину погостить у меня в замке: едемте со мной – и утопим все наши разногласия в добром вине!
Такого неожиданного приглашения я долго не хотел принимать, ибо уже более года не был дома – и тем более стремился поскорее вернуться, что представлял себе, как мое долгое отсутствие тревожит дочь. Но герцог настаивал на своем, не жалея уговоров, и все с такой любезностью, с таким видом чистосердечной доброты, что я наконец не мог более противиться.
Его светлость принял меня с величайшим гостеприимством и осыпал знаками внимания. Но скоро я на деле убедился: честный человек среди тягот походной жизни более в своей стихии, чем в мире придворного лицемерия, где уста и жесты несут привет, но сердца, изъеденные язвами ревности и зависти, с языками в разладе. Скоро заметил я и то, что мои манеры, грубые и откровенные, стали предметом насмешек для разряженных и надушенных ничтожеств, толпящихся в залах герцогского дворца. Впрочем, я сдерживал негодование, говоря себе, что эти создания живут лишь благоволением герцога – так же, как полчища мух, коих лучи солнца пробуждают к жизни из навозной кучи.
Уже несколько дней пробыл я в гостях у герцога и мечтал поскорее уехать, когда герольды с большой торжественностью объявили о прибытии некого важного гостя: и это оказался не кто иной, как мой злейший враг, Руперт Вейдишвильский! Герцог принял его с самым изысканным вежеством, расточал ему тысячи любезностей, и не раз мне казалось, что он намеренно оказывает врагу предпочтение передо мной. Прямой и гордый нрав мой возмущался таким уничижением; а кроме того, я полагал лицемерием пить на пирах из одной чаши с человеком, к коему я питал смертельную ненависть.
Я твердо положил уехать и явился к его светлости, чтобы попрощаться. Казалось, он был глубоко огорчен моим решением – и настойчиво просил поведать причину внезапного отъезда. Я откровенно признался, что причина – в недолжном и незаслуженном благоволении, которое он оказывает моему врагу.
– Больно, очень больно думать, – отвечал герцог с самым горестным видом, – что мой друг – и кто же? – не кто иной, как доблестный Уншпуннен, так превратно, осмелюсь даже сказать, так грубо судит обо мне. Нет, даже в мыслях у меня не было поступать с вами несправедливо; и, чтобы доказать свою искренность и заботу о вашем благополучии, признаюсь: не случайно я пригласил вашего противника ко двору. Он здесь вследствие горячего моего желания примирить двух рыцарей, каждого из коих я высоко ценю, каждый из коих заслуживает назваться прекраснейшим украшением нашей благословенной страны. Позвольте же мне, – продолжал он, взяв за руки меня и Руперта, который вошел во время этого разговора, – позвольте, к общей радости, примирить этих двоих и положить конец вашей старинной вражде. Вы не сможете отказать мне в просьбе, столь согласной со святой верой, которую все мы исповедуем. Итак, дайте же мне стать служителем мира – и предложить вам вот что: в знак и в подтверждение примирения, которое принесет нам всем благословения Небес, позвольте святой нашей Церкви соединить вашу прекрасную дочь, слава о которой разнеслась по всей стране, с единственным сыном лорда Руперта, чьи добродетели, если верна молва, делают его достойным ее любви.
Ярость охватила меня – во мгновение ока обратила кровь в жидкий огонь и почти перемкнула мне горло.
– Что?! – вскричал я. – И вы думаете, я соглашусь так принести в жертву – нет, попросту выбросить вон – свое драгоценное сокровище? Так унизить мою несравненную Иду? Нет, клянусь священной памятью ее матери: чем отдать Иду в жены его сыну – скорее отдам ее в монастырь! Лучше видеть ее мертвой у своих ног, чем согласиться так запятнать ее чистоту!
– Не будь здесь его светлости, – в гневе воскликнул Руперт, – ты немедля лишился бы за это оскорбление жизни! Но погоди, ты мне за это заплатишь! И вы, милорд, будьте свидетелем: он не из смертных людей, если избежит моей мести!
– Ну-ну, милорд Уншпуннен, – заговорил герцог, – в самом деле, слишком уж вы горячи! Страсть затуманила ваш разум; и, поверьте, всю жизнь вы будете раскаиваться, что так сурово отвергли мое дружеское предложение.
– Можете осуждать меня за горячность, ваша светлость, можете даже считать дерзким грубияном, ибо я не страшусь при княжеских дворах говорить правду. Но, поскольку язык мой не в силах говорить того, чего не диктует ему сердце, а мое простое, но честное обращение, как видно, вам не по душе – с позволения вашей светлости, удалюсь в свои владения, куда и так уже слишком долго не возвращался.
– Разумеется, дозволяю, милорд, – сухо ответил герцог и с тем отвернулся от меня.
Привели моего коня; стараясь сохранять внешнее спокойствие, я сел в седло – и вздохнул свободно, лишь оказавшись за пределами замка.
На второй день путешествия впереди показались родные горы, и свежий горный ветер, дохнув в лицо, придал мне сил. Забота и тревога отца о единственном сокровище – любимой дочери – сделала для меня путь вдвое длиннее. Однако, приблизившись к повороту, с которого начинается прямая дорога на замок, я уже почти желал как-нибудь продлить путь: радость предстоящего свидания, надежды, беспокойство – все эти чувства толпились во мне и стесняли грудь. «Всего несколько минут, – говорил я себе, – и вся правда, добрая или дурная, мне откроется».
Наконец впереди показалась моя обитель – и, на первый взгляд, ждала меня тихо и мирно; со времени моего отъезда ничто не изменилось. Пришпорив коня, я помчался к воротам; но, когда подъехал ближе, меня удивили глубокая тишина и пустота вокруг. Ни слуги, ни крестьянина: казалось, всех обитателей замка объял сон.
«Господи всемилостивый, – думал я, – что предвещает эта тишина? Возможно ли, что ее, драгоценного моего дитяти, нет в живых?»
Я не мог набраться мужества позвонить в колокол. Трижды пытался – и трижды страх узнать ужасную правду заставлял меня отдергивать руку. Один миг, слово, даже знак – и я навсегда окажусь бездетным, одиноким, несчастнейшим из людей! Только отец способен вполне прочувствовать такое мучение! – только отец в силах верно его описать!
Из оцепенения вывел меня верный пес: он выбежал навстречу и приветствовал мое возвращение буйными прыжками и громким басовитым лаем. Затем, привлеченный шумом, подошел к воротам старик привратник и сразу их отворил; однако, когда поспешил мне навстречу, я заметил вдруг, как лицо его исказилось, словно каким-то внезапным болезненным воспоминанием, и он резко остановился. Я спрыгнул с коня и торопливо вошел в замок. Тут уже собрались все слуги, кроме верного дворецкого Вильфреда – хотя прежде он всегда первым приветствовал своего господина.
– Где моя дочь? Где ваша госпожа? – нетерпеливо восклицал я. – Скажите мне только, что она жива!
Верный Вильфред, тем временем вошедший в холл, бросился к моим ногам; по морщинистым щекам его катились слезы. Поднявшись, он крепко сжал мою руку и, медля и запинаясь, сообщил, что дочь моя жива; что у нее, как он полагает, все хорошо – но она покинула замок.
– Не тяни, старик! – прервал я, не в силах больше терпеть неизвестность. – Что все это значит? Моя дочь жива; у Иды все хорошо; но ее здесь нет?! Неужто все вы, вместе с моими вассалами, оказались изменниками и, пока я отсутствовал, позволили похитить из замка его величайшее сокровище? Говори, приказываю тебе!