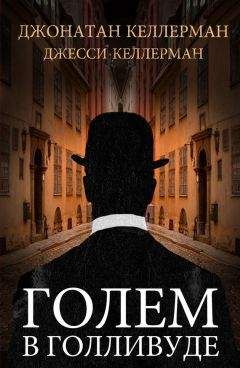Уж она-то может это вообразить. Она изведала насмешку чужого имени.
Перел мнет глину. Свечение ауры неравномерно, оно ярче вокруг головы, сердца, рук и под юбкой между ног.
– Все думали, Юдль разорвет помолвку. Отец ему написал – мол, теперь он не осилит приданое. Я, конечно, горевала, но что тут поделаешь?
Кувшин обретает симметрию и гордую форму, аура становится нестерпимо яркой, окутывая Перел ливнем серых оттенков – ртути, олова и тумана, а еще тишины, тоски, неопределенности, терпения и мудрости, а еще до ужаса ужасной серостью беспримесной злобы.
Она не понимает, как все это может сосуществовать. Какая она, ребецин?
– Я была девчонка. Думала, все, жизнь кончена. Утонула в тоске, неделями не вылезала из постели. Мать боялась, что у меня чума. Из комнаты, которую я делила с четырьмя сестрами, меня отселили на чердак. – Легкая усмешка. – Может, поэтому здесь мне так хорошо.
Интересно, думает она, а у меня есть аура? Даже если есть, самой-то не видно. Наверное, есть, потому-то собаки рычат и поджимают хвост. Грустно, что собака знает тебя лучше, чем ты сама, но, видно, так уж заведено. Со стороны оно всегда виднее. Скажем, Перел явно не ведает про свою ауру. Если б увидала, как аура пузырится расплавленным серебром, так бы не балаболила.
– Одиночество не спасало, одной было только хуже. Но и на людях я горевала, и меня чурались – а то еще заражу своим несчастьем. Меня избегали, я была совсем одна. Кошмарный замкнутый круг. Я ухнула в беспросветное отчаяние, Янкель, глубже некуда.
От воспоминаний Перел мрачнеет и смолкает, вылепляя внутреннюю кромку горлышка. Затем притормаживает круг. Аура меркнет. Вот круг остановился, аура угасла; Перел осматривает кувшин. Удовлетворенно вздыхает и отставляет его в сторону:
– Это самое легкое. А вот с крышкой надо повозиться.
Жи́лой отрезает кусок глины. Раскатывает его на полу, выгоняя воздух, мнет ладонями, превращая в лепешку.
– Знаешь, что меня спасло, Янкель? Господь, благословен Он на небесах, и глина. Из своего бездонного отчаяния я взывала к Нему, и Он услышал мои мольбы, ибо милость Его бесконечна. Однажды я горемыкой бродила у реки. Присела отдохнуть. Машинально взяла горсть глины и стала мять. Давила ее, пропускала сквозь пальцы, как будто черные мысли выдавливала, и вдруг поняла, что уже не плачу. Хорошо-то хорошо, подумала я, но ведь ненадолго, скоро опять удушит тоска. Потом забыла про это, но через пару дней вновь туда забрела. Вообрази, я нашла высохший кусок глины с отпечатком моей руки. Пальцы прямо легли в желобки.
Из глиняной лепешки ребецин ладит крышку, и аура оживает.
– Она ведь особенная, влтавская глина. Крепкая и упругая. Затвердевает даже без обжига. Как накатит тоска, я уходила на реку и лепила всякую всячину. Зверей, цветы. Вылепила кидушный бокал отцу в подарок. Папа обрадовался. Улыбнулся впервые с тех пор, как лишился своих кораблей. Спасибо, сказал, ты вернула красоту в мою жизнь. Мало-помалу я стала поправляться.
Перел примеряет крышку к кувшину и лепит дальше.
– А в те дни, Янкель, почта ходила медленно. Да еще война ее тормозила. Из Люблина письмо Юдля добиралось месяцев семь, а то и восемь. Он ответил на папино предложение разорвать помолвку. Знаешь, что он написал? До последнего вздоха буду помнить слово в слово: «Реб Шмуэль, я откладываю свадьбу лишь до тех пор, пока не скоплю нужную сумму на семейный очаг, достойный вашей дочери».
Перел улыбается.
– Мудрецы говорят, что сладить хороший брак труднее, чем разделить Чермное море[54]. Это Господь, благословен Он на небесах, устроил, чтобы я нашла такого мужа. Иного объяснения нет, Янкель.
Перел смолкает, разглаживая крышку.
– Низ усыхает дольше верха. Надо бы дождаться, когда кувшин высохнет, а уж потом делать крышку, но до Хануки[55] меньше месяца. Скоро так похолодает, что не поработаешь. Глина станет неподатливой. Все равно что камень разминать. Хотя ты-то, наверное, смог бы, а? Шучу, шучу… Надеюсь, Исаак и Фейгеле будут счастливы. Я в это верю.
Она в ответ кивает.
– Спасибо, – говорит ей Перел. – Очень мило, что ты согласен. Исаак славный парень. Юдль его любит как родного. – Она смеется. – В общем-то, он и есть родня.
В мужья младшей дочери ребе выбрал знатока Торы, что ожидаемо и уместно. Но гетто взбудоражено тем, на какого именно знатока Торы пал выбор, – на Исаака Каца, Исаака Простоволосого, лучшего ученика ребе.
Но главное – на вдовца, бывшего мужем старшей дочери Леи.
Кроме ребе, все заинтересованные стороны осторожны в оценках новой партии. Включая нареченных. Исаак, привыкший отводить взор от свояченицы, нынче так выглядит, словно вот-вот хлопнется в обморок. Фейгеле мечется и беспрестанно читает псалмы, будто молится об отсрочке казни.
– Зимой я скучаю по чердаку, – говорит Перел. – Здесь так спокойно. Я прямо снова девочка, избалованная и нарядная. Смешно – вон ведь как извозюкалась. Наверное, тут я на своем месте… Так чудесно.
Мне такое не ведомо.
– После замужества я бросила лепку. Юдлю не нравилось. Говорил, это прах идолопоклонства. В молодости он был очень строг, знаешь ли. Он и сейчас запрещает оставлять подпись и говорить, откуда все это взялось. Но он меня любит, а любовь все стерпит, верно? Он же знает, что меня не удержать. После смерти Леи я лишь так и забывалась. Все женщины теряют детей. До нее я потеряла троих, все и месяца не прожили. Но Лея стала женщиной. Скромной, красивой. Она была слишком нежная для этого мира. Я всегда за нее боялась, и вот, видишь, не зря.
Ребецин рукавом утирает глаза и хрипло смеется:
– Что скажешь, Янкель? – Она показывает крышку: – Простовато? Можно цветком украсить. Фейгеле это любит.
Рука ее парит над инструментами. Ножи, деревянные скребки, разнообразные лопатки с мягкими зазубренными краями. Они и сами – произведения искусства, отполированные рукоятки излучают свет. Перел выбирает валик и раскатывает кусок глины.
– Лея предпочла бы гладкую крышку. Она тоже хорошо лепила. И чего я о ней разговорилась? Фейгеле, вот о ком нужно думать. Я все твержу себе: Лея была не такая уж красавица, не такая уж умница и добрая душа. О тех, кого больше с нами нет, помнится только хорошее. А как быть с остальными дочерями? Как горевать по умершему ребенку и радоваться живым? Вот что я пытаюсь осилить, Янкель.
Глиняная лепешка раскатана тонко, сквозь нее виден свет лампы. Перел осторожно укладывает ее на доску. Потом смачивает оселок, ловко натачивает самый маленький ножик – тот мелодично шуршит. Перел выдергивает из головы черный шелковистый волос и проверяет остроту лезвия. Нож легко рассекает волосок. Очистив лепешку от заусенцев и пузырьков, Перел нарезает из нее крохотные овалы.