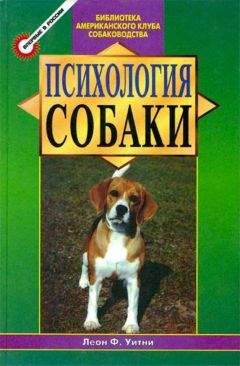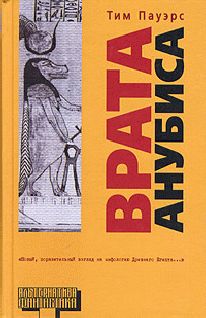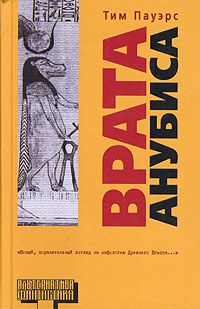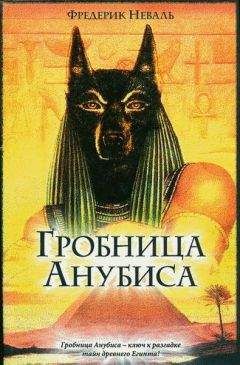Я сидел, курил, пока не услышал шелест листьев. Это, растянув рот в своей бесподобной улыбке, искал меня по запаху Карат. Он вынырнул из зарослей, подбежал ко мне и сел рядом. Я погладил его по голове.
«Тебе здесь нравится?»
«Конечно. Я много лет провел в квартире. Знаешь, как там трудно дышать?»
«Знаю. Я сам не люблю квартиры. Просто мы люди и не умеем жить иначе.»
«Знаю. Вы смешные.»
«Ты все время смеешься. Тебе весело?»
«Редко. Но когда смеешься — легче жить. Ты не уйдешь от меня, как старая хозяйка?»
«Она не виновата. Она просто очень долго жила. Устала.»
«Я помню. Но ты же молодой?»
Я засмеялся.
«Как сказать. У нас с тобой по разному течет время.»
«Я слышу твое сердце. У меня оно гораздо быстрее.»
«Я и говорю — по разному. Я постараюсь не уйти. Но если уйду — не злись на меня. Моей вины в этом не будет.»
«Ладно, не буду. Только ты все равно не уходи… Ты все время думаешь о Грустной Лисе. Почему?»
«А ты о своих суках не думаешь?»
«Иногда думаю. Но не так сильно. Зачем так сильно?»
«Не знаю. Давай, помолчим?»
«Давай.»
Мы сидели под звездным небом и молчали… Как давно это было, как дивно это было и как это ни хуя потом не повторилось!
…Тишину разорвал дикий баянный аккорд, за которым последовал залихватский перебор сумасшедшей частоты. И совершенно, восхитительно пьяный голос Митрича изобразил бесконечную степь да степь кругом в неизвестном мне варианте от корки до корки. Митрич пел вдохновенно, совершенно не вдумываясь в смысл слов, а только бесконечно очаровываясь звучащей внутри него музыкой. Впрочем, голосом его бог не обделил и кое-где, местами, его песня даже была гениальна. Карат вопросительно поднял голову и посмотрел на меня. Я пожал плечами.
Закончив степь, Митрич переметнулся в Кейптаун, где с пробоиной в борту «Жанетта» поправляла такелаж. Потом в ход пошла Мурка. Потом, ясно дело, зашумел камыш. Потом я поднялся и пошел на звук — надо было догнаться. Карат с Греем в фантастическом лунном свете побегали по территории и вскоре умчались давить котов на дальние склады.
В сторожке, гордо именуемой «КПП» было шумно, пьяно и весело. Как говаривал Митрич — все свои. Митрич никогда не пел внутри — всегда выходил на улицу. Но из-за Грея остальная компания должна была слушать его, не высовывая носа. Грей не то чтобы не любил пьяных, он, как бы это сказать, понимал свою роль. Он давно понял, что охранять — это его работа. А каждый лишний человек ночью, будь он хоть триста раз друг Митрича, представлял собой явно выраженный непорядок и его следовало подровнять. Что Грей и делал при каждом удобном случае. Поэтому отливать, например, вся компания выходила строем и во главе с Митричем. И не дай бог — шаг вправо, шаг влево. Грей не бросался на них только из-за уважения к своему начальнику. Но рычал бесподобно. Да и Карат, несмотря на свою вечную улыбку, рядом с Греем терял изрядную часть своей природной доброты. А две овчарки, пусть даже одна из них и колли — серьезный противник.
С Греем я познакомился раньше, чем с Каратом. Когда я первый раз пришел на мехдвор, был день, вокруг была суета обычного советского трудового дня — трактористы, шоферы, начальство. Короче — «мы будем сеять рожь-овес, ломая плуги… прославим ебаный колхоз по всей округе…». Я еще ни хрена тут не знал. Я только увидел вдруг сквозь щели забора абсолютно немигающие собачьи глаза. Не испуганные. Не злые. Не голодные. Не любопытные. Просто умные, жесткие и сдержанные. На меня смотрел крупный серо-черный кобель немецкой овчарки классического образца. Не рыхлый восточно-европейский увалень, а немец без всяких признаков вырождения. Откуда на этот мехдвор попало это чудо — Митрич не знал, потому когда он пришел — Грей уже был. И старый сторож, ложась в больницу, передал Митричу права на эту собаку. Из больницы старик не вернулся. А Митрич, единственный из всех сторожей, смог с ним подружиться. И это, как оказалось, спасло Грею жизнь. Потому что его хотели усыпить по причине полной неуправляемости. Тетя Клава, например, заступая на дежурство, приходила раньше, убеждалась прилюдно, что Грей заперт на замок и только после этого приступала к обязанностям. Дежурство же Митрича сопровождалось обычно повальным бегством с территории всех, кто о Грее помнил. Когда мы распивали с ним первую совместную, он вдруг вспомнил, что забыл выпустить Грея и мы пошли знакомить меня с убийцей котов. Грей мощно вымахнул из калитки, посмотрел на меня, не мигая и легко ушел рысью вдоль забора. Он вообще не стал со мной знакомиться. Он принял меня как равного или не принял вообще — не знаю, но он не подошел, не зарычал, не облаял меня. Он просто прошел мимо. Мне это понравилось. В этом было что-то от невидимости. Через два часа, когда мы сидели с Митричем на крыльце КПП и курили, Грей вернулся и подбежал к нам ровным, легким, пружинистым аллюром. И снова — не заметил, не обратил внимания. Сел рядом.
— Да ну ни ебаться без пистолета! — удивился Митрич — то ли он тебя не видит? Другого бы помял уже.
— Просто он умный. Я ему не враг. Но и не друг. Чего время тратить? Правильно все.
И Грей первый раз посмотрел на меня с интересом. Который тут же похоронил на дне своих глаз. Ах ты, сукин сын! Загадка. Сфинкс. Бездонные, немигающие и карие, пьяные — друг другу в глаза, в душу, в бессмертие. И ирония в самых уголках. Я тебя раскушу, немецкая морда. А я тебя, пьянь подзаборная. Я тут живу, алкаш. Теперь и я тут живу, шерстяной. И рванул Грей опять рысью вдоль забора. Красиво идет, подлец. Чисто волк. Спина — стальная. Стелется над землей, как не касается ее вовсе. Не рисуйся, гаденыш. А ты сам так попробуй, человечишка. Так вот и жили все время — каждый под знаком своего полного и безоговорочного превосходства. Смертельная игра. Карат же все это безобразие прекратил на корню. Грею просто было чудовищно скучно. Вот и весь сфинкс. Даже обидно. И превратился загадочный немец в отличного компанейского пса. Но — только для избранных. А для всех остальных… Кто може — ховайтесь, кто не може — рятуйте, как говаривал Митрич, открывая калитку, за которой переступал лапами от нетерпения Грей.
Я подошел к сторожке, молча взял из рук Митрича стакан с водкой, выдохнул и залпом выпил. Водка была настоящая — не бутор.
— Кто это у нас припер родимую? — спросил я, занюхивая рукавом.
— Шурин припер. Уже под лавкой лежит. Сморило. Споем?
— Дай-ка еще полстакана, а то засыпаю.
Митрич кивнул, поднял с земли стоявшую у его ног бутылку, посмотрел ее на свет фонаря, покачал головой, но все же плеснул мне в стакан.
— «Ничь яка мисячна», Митрич. — сказал я.
Он кивнул, поправил ремень и с ходу, с растягу, с тоски и радости одновременно выиграл железными своими пальцами вступление.
…Я пел, закрыв глаза, отключив в себе все, что только мог, оставив только одну чистую и непорочную свою душу. И ангелы заливались в небе слезами. И падали, бляди, обессилев, на землю. И теряли память. А еще через час, засыпая под пьяный базар, я опять вспомнил: «Напиши мне письмо, Одинокий Ветер»…
…голубое сияние снегов, исчезающая глубина озер, отражение солнца в воде, пестрота полевых цветов, ощущение полета над каменной пустыней, крик птицы под утро, музыка в пустом концертном зале — это все жизнь в пустоте. Нет ни верха, ни низа, не за что уцепиться, нет конца этому, и ветер не может лечь, не может успокоиться.
Человек живет на земле — ему легче. Легче, потому что у него есть вес, потому что он тяжелый.
Ветер вынужден скитаться вечно. Легкая поземка, и буря, и ураган, и шквал растворенной в воздухе воды — все это ты видела много раз. Но только видела. Ветер нельзя ухватить. Холодным сквозняком он вытечет на волю. Миллионы лет движения…
Закрой глаза. Я — ветер. Я играю с тобой, ты — моя игрушка, самая лучшая из игрушек. Дрогнут твои ресницы, легкой дымкой всплывут над головой волосы, взлетит, раскроется цветком платье. Ты услышишь голос ветра — мой голос. Не пытайся понять слова ветра — слушай его как музыку, как плеск воды, шелест песка, как эхо, искажающее твои слова… Забудь, милая, себя; в тебе не осталось ничего, кроме ветра и этой вечной музыки. Сойди с ума, потеряй ощущение времени и пространства; лети, если хочешь; плыви, если хочешь; отрасти себе чешую, крылья кречета, жабры акулы, сердце змеи. Игрушка моя, ты потеряешь разум, ты уже потеряла разум.
Я — ветер. А в ветре нет ничего, кроме воздуха, который течет. Ты будешь дышать им и забудешь все. Я — рядом, я — в тебе, я — нигде.
Открой глаза. Тебя больше нет. Тебя поглотил ветер.
Одинокий Ветер рядом с тобой, тень рядом с тобой, тоска рядом с тобой, смерть рядом с тобой. Ты идешь, ты дышишь, ты растворяешься, ты смотришь вдаль — а ветер неотвратим, одинок и печален. Что-то касается твоих волос и пальцев. ОН проносится мимо, он едва уловим. Он существует где-то рядом. Ночью он разрушает твой сон. Миллионы обрывков нашего сознания невозможно выкинуть просто так из мозга. Вечером голова напоминает помойку. Липкие пятна прошлого наполняют ее. Если бы все это оставалось в мозгу, человек бы сошел с ума. Но — ветер, тень, скорбь рядом с тобой, невидимое излучение далекой звезды, это мое блуждающее «я». Иногда оно действует само по себе. И вот тогда оно уводит мою душу в космос и там, задыхаясь от одиночества, этот призрак мысли ищет — кому помочь. Он находит тебя. И за бесконечную галактическую эпоху на грани сна и бодрствования он стирает из твоего уставшего мозга все пятна прошлого.