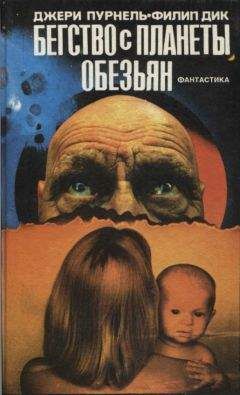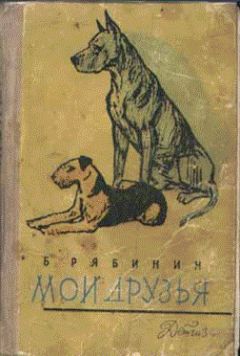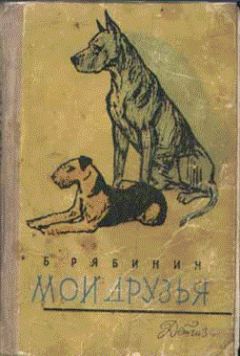— Игорь, Игорь… — повторял я, все еще не веря своим глазам. Но это действительно был Игорь Рогов, давно похороненный, оплаканный всей родней. Не знаю, может быть, Надя, невеста, продолжала ждать его, недаром носила на сердце стихи «Жди меня».
Игорь попал в плен в первоначальный тяжелый период войны, когда наши части и целые армии оказывались в окружении.
Попал тяжелораненым; очнулся в немецком госпитале, а как, что происходило с ним, не помнит. Рана была серьезная, но молодость и крепкий организм взяли свое — он поправился, несмотря на скверную кормежку и почти полное отсутствие медицинского ухода. Сразу задумал бежать. И бежал, перешел фронт и присоединился к своим, снова получил оружие в руки. Но ему не повезло.
Отличный стрелок (выполнил нормы «ворошиловского стрелка» и на значок «ГТО» еще мальчишкой-школьником), лыжник, велосипедист и вообще «спортсменистый» парень был зачислен в разведку. Как пригодилась ему его закалка, сейчас и потом, закалка, к которой в какой-то мере была причастна Гера, отцовская любимица! (Сколько походов сделали с нею в лес, в горы! А сколько купались, играли, затевая азартную потасовку в воде!)
Пять суток Игорь находился на колокольне церкви, откуда корректировал огонь нашей артиллерии. Противник был в ярости: все залпы советских пушек ложились точно в цель. Потом, наконец, догадались и обрушили на церковь шквальный огонь. Снаряды разворотили колокольню, кирпичи брызнули во все стороны, зазвенели жалобно под градом осколков колокола; вместе с верхушкой колокольни Игорь «сыграл» (по его выражению) вниз, на землю. Но он опять оказался живой (все-таки, видимо, и «везло»). Но опять в плену. Подобрали без сознания, с разбитой головой, в тяжелом состоянии, однако снова выжил. Теперь быстро убежать не удалось, началась жизнь (если это можно назвать жизнью) в фашистском плену.
Вот тогда-то Роговы и получили известие о смерти сына.
Где он не побывал за эти кошмарные годы! Действительно повидал «тот свет». Работал на заводе в Тюрингии. Грузчиком: у немцев не хватало сильных, здоровых мужчин. В Восточной Пруссии копал котлованы, для чего — и сам не понял. Из одного лагеря переводили в другой. Бежал. Ловили. Снова бежал, несмотря на то, что раз от раза режим становился строже и строже. Наконец их послали на строительство оборонительных сооружений, это уже близко к фронту, и он надеялся: теперь убежит и уже с концом, больше не поймают. Но неожиданно его отдали — именно отдали, как скотину! — на ферму одному богатому немцу-помещику, развернувшему бурную хозяйственную деятельность на «восточных землях», видимо, имевшему большие заслуги перед гитлеровским государством и нацистской партией. Вот там начался самый ад…
— Да, между прочим, — оживляясь, сказал Игорь и на впалых, бледных щеках его выступил румянец (поел, напился горячего свежего чая с сахаром! Вкуснота!), — представляете, что я повидал? В Тюрингии? Вы помните в толковом словаре Ушакова есть пояснение о переводе с немецкого: «Вот где зарыта собака»? По-немецки это звучит так: «Дас ист дер хунд беграбен»… Дословно: «вот где собака зарыта», «зарыта» на конце… Помните?
Я кивнул, удивляясь тому, что он после всего пережитого вдруг вспомнил именно про это. При чем тут Ушаков и поговорки о собаках, да еще на немецком языке, который, надо полагать, за эти годы и без того достаточно опротивел Игорю?!
Игорь понял, о чем я думаю.
— Удивляетесь? Ничего. Слушайте. Я там был… В Тюрингии той. Места недурные, немножко напоминают наше Закарпатье, если только смотреть другими глазами. Да. Есть там гора Инзельсберг, около нее курорт Табарц, а недалеко от курорта деревня Винтерштейн. Старинная деревушка. А на окраине ее развалины графского замка Вангенхайм:… красивые руины, как в кино! Нас как-то провели через парк; я еще на повороте дороги, в деревне, заметил указатель: «Цум Хундграбен» — «к могиле собаки»; а конвойный, немец, оказался из этой местности, захотел похвастаться, хвастаться они любят, хлебом не корми! Нарочно завернул в парк, подвел нас к холму… каменистый холм, весь зарос кустами и цветами… подвел и говорит: «Смотрите…» «Шауен», по-ихнему «Смотреть». У подножия холма могила, а на ней четырехугольная плита с надписью и барельефом собаки. Ну, собака не такая, как наши. Вероятно, в старину такие были. На барашка похожа… — Игорь прихлебывал чай, обжигаясь и помешивая ложкой, и говорил, говорил; наскучался по русской речи, по общению со своими. — Надпись начинается со слов: «Вот где зарыта собака…» Отсюда, говорит, и пошло! А история такая: в середине семнадцатого века, во время междоусобной войны, соседний Готский замок Грименштейн был окружен врагами, и связь с ним поддерживалась только из замка, откуда посылались донесения с собакой Штутцелем… Собака погибла. Убили. В благодарность за заслуги хозяин сперва хотел похоронить ее на деревенском кладбище, но воспротивились сельчане, не захотели лежать рядом с псом! Тогда граф и распорядился положить ее в родовом парке при замке, на плите высечь надпись в стихах. Надпись готическим шрифтом, в старинном немецком стиле, со старой орфографией: «В 1650 году 19 марта здесь погребена собака по имени Штутцель, с тем чтобы ее не сожрали вороны. Она была верна своему господину и госпоже и доказала это на деле». Но, оказывается, не всегда собаки верны своему господину…
— Ты это к чему?
— А к тому, что, если бы всегда было так, я, наверное, не сидел бы сейчас вместе с вами… Но интересная история, правда?
Право, когда он с таким азартом заговорил о том, что было триста лет назад, сделав длинное отступление, чтоб поделиться сведениями о Штутцеле, мне показалось, что он не совсем в себе: несет всякое. По лицу полковника я видел, что он разделяет мое опасение. Но — нет, вероятно, это было даже естественно. Попав к своим, после стольких мук и унижений, Игорь чувствовал себя как бы заново рожденным, его захватил поток мыслей и чувств, а в такие моменты человек может говорить совсем не о том, что казалось бы более естественным и чего ждут от него. Кроме того, психологически это оправдано и в другом отношении: много пережив, человек не хочет касаться прошлого. Так боятся прикоснуться к свежей ране. Штутцель не вызывал тягостных ассоциаций.
Словом, я узнавал Игоря, хоть он и поразил меня: любознателен, энергичен, ко всему есть интерес; любознателен, казалось бы, даже в самые неподходящие моменты, когда приходится думать о спасении собственной жизни. Он не растерял своих качеств даже в таких испытаниях. Возможно, сказывалась и закоренелая страсть: уж кого-кого, а собаку он не мог оставить без внимания. На эту тему его наталкивало и мое присутствие — прежде при каждой встрече мы непременно говорили о собаках.
— А вы почему без погон? — вдруг только сейчас заметив и прервав рассказ, уставился на меня.
— Еще не заслужил, — отшутился я.
— Недавно с Урала? — догадался он. — Да ну? Вот здорово! Как там мои — отец, мать, Герка?
— И Надя, — подсказал я.
— И Надя, — как эхо, повторил он. — Здоровы? Ждут меня?
— Надя на фронт просилась, сестрой, да не пустили…
— Меня не забыла? — и, прочитав ответ в моих глазах, засмеялся счастливым смехом, — Ой, книги! Пушкин! — потянулся к томику, лежавшему около полевого телефона. — Целую вечность не держал в руках книг!
Вот когда он заволновался, настала разрядка. Обыкновенная книга, растрепанная, затертая донельзя, прошедшая через много рук, обнаруженная около сгоревшего или взорванного дома, в пыли и золе развалин, рождала здесь ощущение чего-то безмерно-прекрасного, желанного, что осталось там, в мирной жизни, особую ценность приобретали мелочи, которых, быть может, не ценил прежде… А что должен был чувствовать Игорь после всего, что ему пришлось пережить? Глаза его набрякли, он поспешно отвернулся…
— Расскажи, как тебе удалось удрать? — напомнил полковник, которого не грели собачьи истории.
— Когда перевели меня как даровую рабочую силу в услужение к этому фашисту, попал я из огня да в полымя. Не знаю, где было хуже! Немец этот, колонист… толстый такой, жирный, гора сала! Отъелся. — Игорь сделал выразительную гримасу и продолжал в прежнем тоне: — … Людей, нас, значит, содержал хуже худого: есть — одни картофельные очистки да мутные помои, работать — с утра до ночи. За все побои. Да это еще не все! Он собак завел, здоровенных сенбернаров, и чуть что, травил ими… Откуда таких взял? Сенбернар — собака добрая, а эти, как звери… в хозяина, должно быть! Бил он их нещадно… так же, как нас, своих рабов. Для него все рабы, нечеловеки! Я раз вступился, так мне тоже попало. Вы знаете, я не могу видеть, когда кого-нибудь бьют. Он их специально злобил, чтоб нас живьем ели, но, по-моему, они его ненавидели еще больше. Собаки нас по ночам сторожили, как в лагере. А у меня к собакам свой подход, знаете. С одним псом завел дружбу. Его на меня травят, я упаду, он подойдет, понюхает и уйдет, а мне что и надо. Потом подманивать его стал: идет. Словом, установили взаимопонимание. Лео звать. Лев, значит. «Лео» да «Лео», он ко мне привык, не лает, не грызет. Хвостом машет! Ходит за мной. Громадный! Я даже бояться стал: как бы не заметили, худо стало бы обоим.