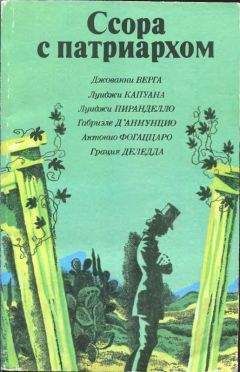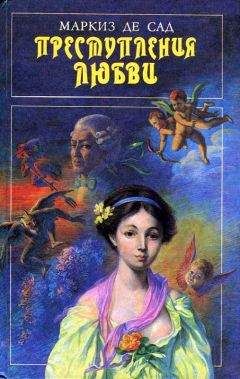– Да вы начинаете браниться, сударь!
– Простите: несправедливость, клевета и распутство так переворачивают мою душу, что порой я не в силах совладать с волнением, в которое повергают меня подобные бесчинства. Сожжем эти бумаги, сударь, еще раз настоятельно прошу вас, сделаем это, ради спасения вашей чести и вашего покоя!
– Я не представлял, сударь, – произнес Франваль, поднимаясь, – что люди, отправляющие богослужение, с такой легкостью становятся ярыми защитниками и покровителями безнравственности и адюльтера. Жена моя позорит и разоряет меня, я доказываю это – вы же предпочитаете облыжно обвинять меня самого в клевете, нежели признать эту женщину вероломной и распутной! Ну что ж, сударь, пусть решает закон. В любом суде Франции я предъявлю доказательства, предам огласке свое бесчестье, и тогда увидим, достанет ли у вас простодушия, или скорее неразумия, выступить против меня, покровительствуя столь бесчестному созданию.
– Прежде чем удалиться, сударь, – сказал Клервиль, также поднимаясь, – замечу, что и я не представлял, насколько странности вашего ума отравят ваше сердце, и что, ослепленный несправедливой местью, вы окажетесь способны хладнокровно отстаивать порожденные горячечным бредом доктрины. Ах, сударь, все это лучше, чем когда бы то ни было, убеждает меня: человек, преступивший самый священный свой долг, очень скоро обратит в прах и все остальное. Если вы одумаетесь – соблаговолите дать мне знать, сударь, и вы всегда найдете и во мне и в вашей семье друзей, готовых вас принять. С вашего позволения, могу я на несколько минут повидать вашу дочь?
– Она в вашем полном распоряжении, сударь. Призываю вас употребить еще больше красноречия или других верных средств, чтобы представить ей в выгодном свете лучезарные истины, в которых я имею несчастье видеть лишь ослепленность и пустое словоблудие.
Клервиль зашел к Эжени. Та встретила его в необычайно кокетливом и изысканном дезабилье. Такого же рода неприличие – плод бесстыдства и преступления – отличало и ее вызывающие жесты и взгляды. Коварная особа, словно оскорбляя пленительные дары, доставшиеся ей от природы, соединяла в себе то, чем привлекают порок, и то, чем возмущают добродетель.
Юной девице не приходится входить в глубокие детали, подобно философствующему Франвалю, и потому Эжени начала с насмешек и мало-помалу перешла к самым откровенным заигрываниям. Но вскоре, убедившись, что ее усилия напрасны и столь добродетельный человек все не попадается в расставленные силки, она ловко распутывает узелки, на которых держалась легкая ткань, скрывающая ее прелести, приводит в беспорядок свой туалет и, прежде чем Клервиль успевает все это заметить, истошно кричит:
– Негодяй! Уберите это чудовище! Только не рассказывайте о его злодействе отцу. Небо праведное! Я ожидала благочестивых наставлений... А этот бесчестный покушается на мое целомудрие! Посмотрите, – обращается она к людям, сбежавшимся на ее вопли, – взгляните, до какого состояния довел меня бесстыдник. Вот, вот он, один из благодушных последователей оскорбляемого ими же божества: обольщение, распутство, насилие – вот из чего складывается их нравственность, а мы, одураченные их ложной добродетелью, с прежней наивностью продолжаем их почитать!
Клервиль, в крайнем смятении от этого скандала, сумел скрыть свое состояние. Не теряя хладнокровия, он проходит сквозь окружающую его толпу.
– Пусть Небо хранит эту несчастную, – спокойно говорит он, – пусть оно просветит ее, если сможет, и пусть никто в ее доме не рассчитывает более на добродетельные чувства, как это делал я, стремившийся оживить их в ее сердце, а не оскорбить.
Таков был единственный результат, которого добились госпожа де Фарней и ее дочь от переговоров, на которые возлагались такие надежды. Они были далеки от осознания всей глубины падения вставшей на преступный путь души: то, что оказало бы воздействие на обычных людей, в преступниках вызывает лишь ожесточение, и даже в призывах к благоразумию они усматривают лишь подстрекательство к дурным поступкам.
Ожесточение с обеих сторон с этого момента росло – Франваль и Эжени понимали, что мнимые прегрешения их жены и матери необходимо явить со всей возможной наглядностью, а госпожа де Фарней вместе с дочерью обдумывала всерьез планы похищения Эжени. Клервиль, их добропорядочный друг, извещенный об этом плане, наотрез отказался принимать участие в столь решительных действиях. Теперь, говорил он, после того как с ним так грубо обошлись, единственное, что в его силах, это призывать в молитвах к снисхождению к заблудшим; он это и делал с большим усердием, запретив себе любое другое участие в деле. Какая возвышенность чувств! Отчего такое благородство для людей в сутане столь редко? Скажем иначе: отчего этот необыкновенный человек носил столь запятнанное одеяние?
А что же Франваль?
У него вновь появился Вальмон.
– Экий ты оказался дурак, – заявил преступный любовник Эжени, – ты недостоин быть моим учеником. Я осмею тебя на весь Париж, если при втором свидании ты не поведешь себя умнее с моей женой. Необходимо овладеть ею, друг мой, и овладеть по-настоящему, чтобы я своими глазами мог убедиться в ее падении. Я должен в конце концов отнять у этой презренной твари всякое средство оправдания и защиты.
– Но если она не поддастся? – спросил Вальмон.
– Ты возьмешь ее силой! Я позабочусь, чтобы никто тебе не помешал. Устрашай ее, грози чем хочешь: это не имеет значения!.. Все, что ты сделаешь для своей победы, я буду считать услугой с твоей стороны.
– Послушай, – сказал Вальмон после какого-то размышления, – я согласен. И даю слово, что твоя жена будет побеждена мною. Но я ставлю одно условие. Откажешься – и я ничего не предприму. Ты же знаешь, ревности нет места в наших делах; итак я желаю, чтобы ты позволил мне провести четверть часа с Эжени. Ты не представляешь, как я поведу наше дело после того, как смогу хотя бы миг насладиться радостью общения с твоей дочерью.
– Но, Вальмон...
– Я понимаю твои опасения. Но разве они простительны между настоящими друзьями – ты ведь считаешь меня своим другом? Я стремлюсь лишь полюбоваться Эжени наедине и минуту поговорить с ней.
– Вальмон, – сказал немного удивленный Франваль, – ты назначаешь слишком высокую цену за свои услуги. Я, как и ты, понимаю всю смехотворность ревности, но я боготворю ту, о которой ты говоришь, и скорее уступлю все свое состояние, чем ее любовь.
– Будь спокоен, я на это не претендую.
И Франваль, прекрасно понимая, что среди бесчисленного множества знакомцев ему не найти никого, кто мог бы услужить так, как Вальмон, переменил позицию.
– Что ж, – сказал он, и в тоне его слышалось раздражение, – услуги твои стоят дорого. Оплачивая их таким образом, я считаю себя свободным от благодарности.
– О! Благодарность – награда за услуги, не затрагивающие чести. За те, что я тебе окажу, благодарности я от тебя и не жду; более того, не пройдет и двух месяцев, как мы из-за них рассоримся. Да, друг мой, я знаю людей, их заблуждения, их выверты и все вызванные ими последствия: помести этих самых злобных на свете животных в угодное тебе положение, и я безошибочно предскажу их поступки. Итак, я желаю быть вознагражденным заранее, иначе ни за что не берусь.
– Я согласен, – сказал Франваль.
– Итак, – ответил Вальмон, – теперь все зависит от тебя: я начну, когда тебе будет угодно.
– Мне нужно несколько дней, чтобы все подготовить, – сказал Франваль, – но не позднее, чем через четыре дня, я буду готов.
Господин де Франваль воспитал свою дочь таким образом, что был уверен: ее не отличала излишняя стыдливость, из-за которой стоило бы отказываться от их совместной с приятелем интриги. Однако он был ревнив, и Эжени знала об этом. Она обожала его столь же пылко, сколь страстно тот любил ее; едва узнав о чем идет речь, она призналась, что крайне опасается последствий этой встречи с глазу на глаз. Считая, что достаточно хорошо знает Вальмона, Франваль не сомневался: в этом приключении тот ищет лишь пищу для ума, а посему нет оснований опасаться за его сердце. Он как мог рассеял страхи дочери, и тем приготовления завершились.
Как раз в это время Франваль узнал от надежных, всецело преданных ему слуг из дома тещи, что Эжени угрожает опасность и что госпожа де Фарней только ждет сигнала, чтобы увезти ее. Франваль не сомневается, что заговор задуман Клервилем, и, отложив ненадолго планы с Вальмоном, занимается исключительно попытками отделаться от ни в чем не повинного священнослужителя, которого ошибочно счел организатором готовящегося похищения Эжени. Он сорит золотом, разбрасывая этот всесильный разносчик пороков по тысячам разных рук; наконец находится шестерка мошенников, готовых исполнить его приказы.
Однажды вечером, в то время, когда Клервиль, часто ужинавший у госпожи де Фарней, в одиночестве возвращался оттуда пешком, его окружили, схватили, сказав, что действуют по поручению властей, предъявили подложное предписание об аресте, бросили в почтовую карету и тотчас же отвезли в уединенный замок в Арденнах, принадлежавший Франвалю. Тамошнему привратнику пленника отрекомендовали как негодяя, посягнувшего на жизнь хозяина. Господина де Клервиля поместили в домашнюю тюрьму. Наилучшим образом были приняты все меры предосторожности, чтобы несчастной жертве, чья единственная вина – излишняя снисходительность к своим оскорбителям, невозможно было выйти на свет Божий.