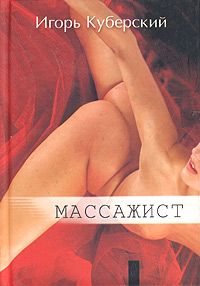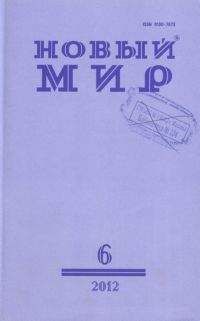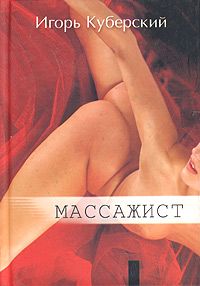Ознакомительная версия.
– Куда? Нам в другую сторону...
Развернувшись, я молча пошел за ней...
– До части два километра, – усмехнулась Людмила, – да с грузом... Нет, я не согласна. Тут до моего дома всего один квартал. Зайдем, положим, – потом гуляй себе...
Да, было очевидно, что она рада встрече со мной и не очень пытается это скрыть. Признаться, я тоже был рад – и ничуть мне было не стыдно перед ней за тот свой мужской конфуз, – ощущение собственного позора изжилось во мне, и какой же непростительной глупостью было бы, если бы я тогда нажал на спусковой крючок. Страдания наши преходящи и условны, – открыл я для себя очевидную истину; то есть в других условиях над ними можно даже посмеяться, покрутив пальцем у виска... Есть жизнь, – стал понимать я, – и в ней одно познается и воспринимается через другое – горе через радость, боль через наслаждение. Если бы не было границ наших состояний, мы бы жили в одном сером однообразном бесчувствии. И это мое открытие означало ни что иное, как приятие жизни со всем, что в ней есть, какой бы она ни была. Потому что если бы не было плохого, исчезло бы и хорошее, – эти противоположности только и можно воспринять и распознать благодаря друг другу, как черное на белом и наоборот. Жизнь, чтобы ее ощутить и почувствовать, должна проходить в вечной смене разных состояний! Конечно, трудно примириться с неизбежностью плохого, отрицательного, тем более, что мы всеми правдами и неправдами стараемся его избегать, но на стратегическом, философском, мировоззренческом уровне я это отрицательное принял – и вокруг себя и в себе самом. Так что рядом с Людмилой шел теперь совсем другой я, и мне неистово хотелось поделиться с ней своими новыми мыслями и открытиями, тем более что прежде мы часто с ней говорили, что называется, «за жизнь».
Людмила была в приталенном осеннем пальто, не скрадывающим, а наоборот, подчеркивающим особенности ее фигуры – выпуклость груди, прямые плечи, узкий прямой стан, переходящей в крутой обвод бедер. Ведь я был между ними... и это было хорошо, разве мне не было хорошо? Под тонкой тканью пальто был обрисован и зад, – он взволновал меня, еще когда в дверях магазина я пропустил Людмилу вперед... Я вдруг вспомнил все подробности нашего прерванного соития и у меня защемило в средостении от нежности. Весь этот короткий переход от книжного магазина до ее дома я воспринимал как демонстрацию символов и намеков на то, что дальше между нами произойдет. Действительность сигнализировала мне о своих намерениях и проверяла мою готовность, мой тайный отклик. Во мне было только трепетание, радость, предчувствие того чудесного, что должно было произойти, и никакие посторонние мысли, сомнения, тревоги не мешали мне, не проникали в меня, отвергались моим широким, мощным предчувствием счастья. Я все знал заранее, я знал, что будет, и знал, что этому ничто не может помешать, потому что так сошлись звезды, и даже тот мой майский провал и конфуз тоже произошел по велению звезд, – ибо я должен был многое понять и от многого освободиться ради свидания со своей первой настоящей женщиной. То, что со мной произошло с весны по осень, следовало бы назвать чистилищем души. Так, по сути дела, оно и было.
Людмила с мужем жили в типовом домике – на два входа и две квартиры. Во дворе залаяла овчарка на цепи, соседская, как пояснила Людмила.
– Свои, Рекс, – сказала она, но пес продолжал на меня лаять. Для него я был явно не свой...
Мы вошли, опустили на пол в маленькой прихожей пачки с книгами и закрыли за собой дверь. Главное – было закрыть дверь и остаться наедине, потому что дальше, еще в прихожей, мы стали как безумные целоваться, и весь наш путь до постели – не помню, как и когда мы до нее добрались – был помечен какой-нибудь частью нашей одежды, начиная с моих сапог... словно некий мальчик-с-пальчик метил дорожку в светлую страну плотской любви, чтобы потом уже никогда не плутать в потемках... Я назвал любовь плотской намеренно, потому что такую ее не спутать ни с какой другой любовью, имей она еще хоть сто эпитетов. Я говорю лишь о том, что хорошо знаю, – о женском теле, отдающемся тебе, особенно в первую встречу, когда все чувства обострены, и кажется, что никогда не преодолеешь психологический барьер, когда почти умираешь, переходя из своего в чужое, которое в некое ослепительное мгновение становится твоим. Кажется, это Розанов писал, что Бог, сотворив тела мужчины и женщины прекрасными, лишь вчерне набросал проект их гениталий, оттого-то они выглядят пугающе и мало кому нравятся внешне, и что, де, только в их соединении, соитии и возникает целокупная красота. Не знаю, может быть, и так. Мне же красоту женского лона открыла Людмила – когда после всего, что случилось между нами, я лежал головой на ее бедре и влюбленно глядел на ее опушенное тонкими волосками чуть приоткрытое устье... иногда я благодарно пролизывал эти влажные розовые складки – и они вздрагивали под моим языком, и маленькие губки-лепестки, обрамляющие вход внутрь, чуть сокращались и распускались. Пальцы Людмилы лежали на моем причинном месте, и ей было достаточно легкого пожатия, чтобы оно начинало наполняться и привставать – и мы снова пускались в неистовый обмен нежностью и страстью. Я не помню, сколько раз это было в тот вечер. Может, шесть, может, восемь... Для меня было открытием, что этим можно заниматься долго, и повторять и начинать сначала... И это зависело как бы не от меня, а от Людмилы, от ее желания, – от веления ее пальцев или губ.
Она, похоже, была удивлена не меньше меня и тихо говорила:
– Такого еще никогда со мною не было. Слышишь? Никогда.
В тот вечер я не спрашивал ее ни о чем и не о чем не волновался. Мы были, как дети, у которых вместо совершенно неведомого и безразличного им будущего, есть полнота настоящего, что и делает детство самым счастливым временем жизни. Я даже не спросил, где ее муж и мой командир, капитан Черных...
Мы встречались раз в неделю у Людмилы в библиотеке. Уж не знаю, как ей удалось раздобыть матрас, который хранился теперь в подсобке, только на нем наша любовь стала гораздо комфортнее, – мы клали его между стеллажами... Происходило это в обеденный перерыв или вечером сразу после закрытия библиотеки. Проникнуть незамеченным или остаться здесь одному каждый раз было проблемой, – то я должен был «затеряться» до поры между стеллажами, то приходилось влезать с тыльной стороны в окно, которое Людмила оставляла для меня незакрытым. Больше нам не удавалось побыть вместе хотя бы час – чувство постоянной опасности теснило сердце, и постепенно мы привыкли к соитию стремительному, молчаливому, длящемуся минут десять, не более; при этом не однажды в дверь раздавался стук, или за окном возникала рука, дотянувшаяся до стекла, и барабанящие в него пальцы могли свести с ума – неужели это он, капитан Черных? Однако я был готов к неожиданностям, и эти стуки не влияли на мою мужскую силу – они стали частью нашей любовной игры, напрочь связанной с риском и угрозой разоблачения... Может быть, я в них даже нуждался, потому что, оказывается, любил экстрим. А эти занятия на плацу, где наша рота главе с капитаном Черных, грозно рыча, отрабатывала приемы рукопашной схватки, – сюда выходили окна библиотеки, и не раз я узнавал за стеклом силуэт Людмилы... Она следила за двумя своими мужчинами, словно сравнивая их...
Наш роман, пусть даже в такой форме, был почти невероятным для моей довольно суровой армейской действительности. Еще годы спустя мне снились наши тайные скоротечные свидания, даже не они, не Людмила, а этот путь к ней, полный препятствий, эти дуновения тревоги.
Лишь дважды еще нам удалось встретиться у Людмилы дома, когда у меня была увольнительная, а капитан Черных дежурил по части... Поначалу мне было непросто стоять перед ним, смотреть ему в глаза – я готов был к наказанию. Но время шло, никто меня не разоблачал, и наказание откладывалось на неопределенный срок – я даже стал думать, что так оно и будет впредь, что я неуязвим, и Бог на моей стороне... Впрочем, иногда мне все же казалось, что Людмилин муж как-то слишком внимательно смотрит на меня, и что в его суровом, вечно озабоченном командирском взгляде есть нештатная информация обо мне...
Да, Людмила была на шесть лет старше меня, и это сказывалось на наших отношениях. Она была моей любовницей, любимой, возлюбленной, и в тоже время она была моей старшей сестрой и даже матерью, возвращая из сокровищницы нежности недоданную мне ласку. Людмила вообще была ласкушей, – казалось, для нее счастье все перетрогать, перепробовать языком... Я любил ее, любил как мужчина всем, что мне было дано, – я любил ее как мать, как сестру, как прекрасную женщину, отдающуюся мне... Пусть это была плотская любовь, но как это, оказывается, много... Я никогда не спрашивал ее о муже, об их семье, чтоб не задеть невзначай болевую точку ее тайны, ведь я догадывался, что если она сошлась со мной, то не от беспутства и разнузданной чувственности, а оттого, что в ее семье, в отношениях с мужем что-то было не так. Во всяком случае, я был уверен, что они не занимаются любовью, иначе она бы не набрасывалась на меня с такой жадностью, не была бы столь изобретательна и изощрена в минуты нашего торопливого блаженства, которое мы крали тут и там у грубой, почти бесчувственной реальности.
Ознакомительная версия.