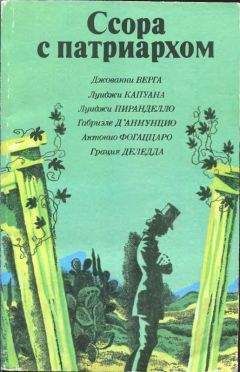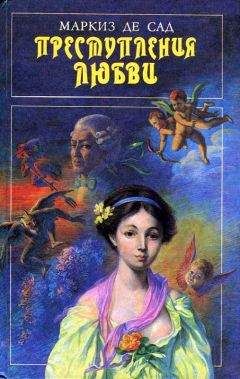– Эжени, – сказал он, возводя ее на этот престол, – будь сегодня королевой сердца моего и позволь мне преклонить пред тобой колена!
– Ты поклоняешься мне, брат мой, той, что всем на свете обязана тебе, породившему и сотворившему меня! Ах! Разреши лучше мне пасть к ногам твоим: вот воистину мое место, и я не стремлюсь к иному в наших отношениях.
– О моя нежная Эжени, – произнес граф, усаживаясь рядом на сиденье из цветов, призванных украсить его победу, – если ты действительно считаешь себя передо мной в долгу, если чувства твои на самом деле столь искренни, как я слышу от тебя, – ответь, известно ли тебе, каким способом можно меня в этом убедить?
– Каким же, брат мой? Не томи, назови его, и я быстро пойму, что ты имеешь в виду.
– Все чары, которыми щедро наградила тебя природа, все манящие прелести, которыми она украсила тебя, должны быть тотчас же принесены мне в жертву.
– Зачем же ты просишь? Не ты ли мой хозяин? Неужели то, что ты создал, не принадлежит тебе? Смеет ли кто-то другой наслаждаться плодами твоего творения?
– Подумай о людских предрассудках.
– Ты никогда не скрывал их от меня.
– Все же я не хочу преступать их без твоего согласия.
– Разве ты не презираешь их, так же как и я?
– Разумеется, презираю, но не желаю быть ни тираном твоим, ни тем более – соблазнителем. Милости, которых я добиваюсь, я желаю получить исключительно по любви. Ты знакома с обществом, я не утаивал от тебя ни одного из его соблазнов; прятать от твоих взоров других мужчин, предоставляя на созерцание лишь меня одного, было бы непростительным обманом с моей стороны. Если существует в мире тот, кого ты предпочитаешь мне, назови его сию минуту: я пойду за ним хоть на край света и доставлю его в твои объятия. Словом, я забочусь лишь о твоем счастье, ангел мой, твое счастье для меня важнее моего собственного. Сладостные утехи, что ты можешь мне подарить, ничего не значат для меня, если они не явятся залогом твоей любви. Решайся же, Эжени. Приближается миг твоего жертвоприношения, ты должна его свершить. Жреца же назначай сама: я отрекаюсь от наслаждений, что обещает мне это звание, если достигнуты они будут наперекор велению твоей души, и, желая оставаться достойным твоей привязанности в случае, если ты выберешь не меня, я приведу того, кого ты пожелаешь любить; не сумев завоевать твоего сердца, я постараюсь заслужить твою нежность и стану наперсником Эжени, коль мне не суждено стать ее возлюбленным.
– Ты будешь всем, брат мой, всем на свете! – воскликнула Эжени в порыве любви и желания. – Кому же приносить жертву, если не тому единственному, кого я боготворю? Кто во всей вселенной более тебя достоин обладать вызывающими твое вожделение нехитрыми прелестями, которые уже обжигают твои пылающие пальцы? Разве ты не чувствуешь по охватившему меня жару, что я, как и ты, тороплюсь вкусить наслаждения, о которых ты говоришь? Ах! Бери меня, бери, мой нежный брат, мой бесценный друг, сделай Эжени своей жертвой: жертвоприношение, свершенное этими любимыми руками, лишь сделает ее счастливой.
Безудержный Франваль, чей характер, как нам известно, отличался сдержанностью лишь в той мере, в которой это было необходимо для изощренного обольщения, немедля воспользовался доверчивостью дочери и, преодолев все препоны как с помощью принципов, которыми вскормил ее душу, открытую для любых впечатлений, так и благодаря мастерству, с которым очаровал ее в решающую минуту, завершил вероломное завоевание, став безнаказанным разрушителем целомудрия, чья сохранность была ему вверена самой природой и званием отца.
С тех пор прошло немало дней, полных взаимного опьянения. Эжени, в силу возраста склонная к жажде познания радостей любви и вдохновленная системой изучения, самозабвенно окунулась в них с головой. Франваль преподал ей все таинства сладострастия, проложив все мыслимые пути его удовлетворения; чем большему их числу он оказывал почести, тем сильнее упрочивалась его победа: Эжени готова была принять его в тысяче храмов одновременно, упрекая возлюбленного, что его фантазии недостаточно смелы; ей казалось, что он не все еще ей раскрыл. Она сетовала на свою юность и неопытность, из-за которых могла оказаться недостаточно обольстительной. Ей хотелось стать более искушенной, чтобы ни одно из средств воспламенить любовника не осталось ей неведомым.
По возвращении в Париж стало ясно: преступные утехи, которыми упивался этот испорченный человек, столь восхитительно услаждали его как физически, так и морально, что даже непостоянство, обычно служившее причиной конца всех других его интрижек, не смогло разорвать этих уз. Он без памяти влюбился, и пагубная эта страсть неизбежно должна была привести к жестокому забвению супруги. Увы, бедная жертва! Госпоже де Франваль был в ту пору тридцать один год и она находилась в расцвете своей красоты. Выражение грусти и печали, запечатленное на ее лице, делало ее еще привлекательней. Вся в слезах, подавленная, задумчивая, с прекрасными волосами, небрежно разметавшимися по белоснежной груди, с губами, любовно прижатыми к дорогому ей портрету неверного мужа-тирана, она походила на одну из прекрасных скорбящих дев работы Микеланджело. Она еще не ведала того, что должно было усилить ее муки. Метод обучения Эжени, основные представления о нравственности, которые ей не объяснялись, а если и упоминались, то лишь затем, чтобы заставить их возненавидеть; очевидность того, что все почитаемое матерью и презираемое Франвалем, никогда не будет дозволено дочери; ничтожно малое время, отпущенное ей для общения с ребенком; опасения, что столь странное воспитание рано или поздно приведет к преступлениям; наконец, выходки Франваля, его ежедневные грубости по отношению к ней (к ней, кто – сама предупредительность, чья единственная радость – заинтересовать и привлечь его) – таковы были ее заботы в то время. Какой еще болью отзовется эта нежная, чувствительная душа, когда ей станет известно обо всем!
Тем временем образование Эжени шло своим чередом. Она сама пожелала до шестнадцати лет продолжать занятия с учителями. Ее дарования, обширные знания и с каждым днем расцветающие прелести все крепче привязывали Франваля: не вызывало никаких сомнений, что он никогда никого и ничто на свете не любил так, как Эжени.
В основном в образе жизни мадемуазель де Франваль не многое изменилось. Разве что беседы с глазу на глаз с отцом происходили все чаще и длились допоздна. Одна лишь гувернантка была посвящена в любовную историю: женщину эту считали достаточно надежной и не опасались ее болтливости. Несколько иначе проходили трапезы Эжени: теперь она обедала вместе с родителями. Это обстоятельство вскоре сделало Эжени участницей приемов, устраиваемых в доме Франваля. Ее узнали в свете. Она оказалась желанной партией. Многие стали добиваться ее руки. Франваль, уверенный в преданности дочери, ничуть не страшился претендентов, однако он не предусмотрел, что обилие брачных предложений может способствовать его разоблачению.
Как-то в разговоре с дочерью – милости столь желанной и столь редко предоставляемой госпоже де Франваль, – любящая мать поведала Эжени, что ее руки просит господин де Коленс.
– Вы знаете этого человека, дочь моя, – говорила госпожа де Франваль. – Он любит вас, он молод, любезен, богат и надеется на ваше согласие. Одно ваше слово, дочь моя... Что мне ответить?
Смущенная Эжени залилась краской и ответила, что еще не испытывает склонности к супружеству, однако считает возможным обратиться за советом к отцу: его воля для нее закон.
Госпожа де Франваль, не усмотрев ничего необычного в подобном ответе, несколько дней выжидала. Улучив благоприятный момент для обсуждения, она изложила супругу намерения молодого Коленса и его семьи, сопровождая рассказ передачей ответа дочери. Франваль, конечно, был уже обо всем осведомлен. Но притворщик даже не дал себе труда сдержаться.
– Сударыня, – сухо обращается он к жене, – настоятельно прошу вас не вмешиваться в дела Эжени: судя по моим усилиям удалить ее от вас, несложно уяснить, насколько мне желательно, чтобы все касающееся ее не имело к вам ни малейшего отношения. Еще раз повторяю мои распоряжения по этому поводу. Льщу себя надеждой, что вы их не запамятуете.
– Но что же мне отвечать, сударь, ведь обращаются-то ко мне?
– Скажете, что я признателен за оказываемую мне честь, однако дочь моя имеет врожденные изъяны, препятствующие ее замужеству.
– Но, сударь, отчего вы желаете, чтобы я внушала всем мысль о несуществующих изъянах, зачем лишать вашу единственную дочь счастья, которое она может испытать в супружестве?
– Сумели ли осчастливить вас эти узы, сударыня?
– Наверное, я сама виновата, что мне никак не удается привязать вас к себе, но не все жены таковы (последовал тяжкий вздох); к тому же и вы не похожи на других мужей.