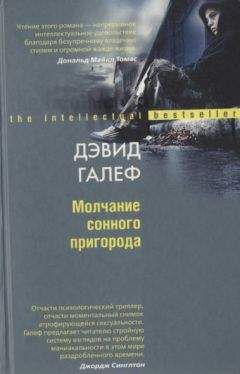К несчастью, мы не знали самого главного — чего хочет сам Макс. Он как-то пару раз обмолвился о своей бывшей подружке из Манхэттена, но это были мимолетные упоминания, Макс даже не назвал ее имени. Я догадывался, что он хочет взять тайм-аут, и не желал его подгонять. С другой стороны, было ясно, что он отнюдь не монах. Я был совершенно уверен, что он тихо ведет себя в Оксфорде только потому, что порывы такого рода — во всяком случае, для человека его возраста — были здесь попросту невозможны. Когда приходишь в прачечную, получаешь только выстиранные вещи, и больше ничего. Если же вы действительно вынашиваете матримониальные планы, лучший способ воплотить их в жизнь — стать баптистом, но Макс был не из того теста.
Мне казалось, что какие-то сексуальные связи у него могли быть. Дело в том, что дальняя стена моего кабинета была одновременно стеной его спальни. Судя по скудости меблировки его квартиры, обстановка там была сугубо спартанская: сосновый комод с зеркалом, который я помогал перетаскивать, может быть, настенный светильник для чтения, складное кресло из «Уол-Марта» и пружинный матрац на деревянной раме. Все эти предметы не издавали ни малейшего шума, кроме кровати, которая скрипела в мастурбирующем ритме — иногда днем, иногда вечером. Приапизм имел место, это не вызывало у меня никаких сомнений.
Не будь я таким любопытным, я бы просто выходил из кабинета. Конечно, я никому не рассказывал о том, что слышал. Но мне было интересно, какую визуальную стимуляцию — кажется, это называют именно так — он использовал, и если да, то как она выглядит. Девушки модельной внешности в спортивных машинах или шлюхи на мотоциклах? Торчащие груди или убойные сиськи? Когда я был мальчишкой, в Филадельфии некоторые парни пользовались для этой цели старыми каталогами Сирса. Но быть взрослым в той компании — это значило самому покупать порнографические журналы. У меня самого было несколько таких журналов, и я пользовался ими в первые два года моего пребывания здесь, до того как встретил Сьюзен, когда журналы перекочевали в запертый ящик стола.
Сильнее всего меня выводили из себя звуки, которые издавал Макс. Это было нечто среднее между хрипами и стонами, иногда с приступами гомерического хохота. Воображал ли он себя снизу или сверху? Какой тип тела или одежды возбуждал его? Иногда, когда я засиживался в кабинете, такие вопросы начинали сильно меня занимать. Потом я вставал и направлялся в спальню, где засыпала Сьюзен, и принимался гладить ее тело — сверху вниз и снизу вверх, останавливаясь в нескольких местах: на грушевидных грудях и пушистом светлом лобке и ниже, на внутренней стороне бедер, где кожа была потемнее. Мы почти не разговаривали, но, когда ее вздохи достигали определенной тональности, она сама принималась делать то же самое со мной, что заставляло меня подчас чувствовать себя бисексуальным — особенно из-за того, что у Сьюзен были узкие бедра и стройные ноги. Наша кровать с поролоновым матрацем на стальной раме не издавала ни звука.
Этот званый вечер был в каком-то смысле заговором. Сьюзен пригласила гостей на вечер пятницы, и, чтобы это не выглядело как прямое сводничество, мы позвали еще и Пирсонов, супружескую пару с нашего же факультета, состоящую наполовину из кафедры английской филологии, а наполовину из кафедры психологии. Такое совмещение, казалось бы, должно сулить катастрофу, но супруги уживались на удивление мирно — как друг с другом, так и с окружающими. Джина Пирсон, урожденная Тальери — это наш несгибаемый поклонник Фолкнера. Она одержима идеей, что, если не считать такого пустяка, как самоубийство, Фолкнер был абсолютно нормальным человеком. Ее муж Стенли занимается экспериментальной психологией и рассказывает весьма познавательные вещи о гипоталамусе и нейронных матрицах, но на самом деле больше любит выпить пару-тройку кружек пива и, кстати, поразительно хорошо осведомлен об английской литературе, особенно о британском модернизме, то есть в моей области. Но такой узкоспециальный интерес мало что значит: если мы устраиваем факультетские вечеринки, то обычно проводим время в жалобах на администрацию и студентов.
Обед был назначен на семь часов, и Сьюзен провела целый час у плиты, готовя сложное куриное блюдо, название которого напрочь улетучилось из моей головы, но я помню, что оно пахло полынью и лимонным соком. Были в нем еще шафран, рис и лаймовые бобы. На мою долю выпал салат, и я продолжал без устали крошить его, пока не осознал, что гора нарубленной мною зелени скоро перестанет умещаться в миске. Макс пришел первым — ровно в семь. Конечно, он наш сосед и ему не надо было далеко идти, но мне показалось, что если бы мы назначили вечеринку на семь ноль шесть, то он явился бы на шесть минут позже.
На нем были брюки хаки и открытая рубашка, что при такой духоте стоило бы назвать официальным вечерним костюмом, в котором еще можно было дышать. Он презентовал нам бутылку калифорнийского шабли, которая, запотев от холода, лежала в бумажном пакете. Я приступил к обязанностям гостеприимного хозяина, налив нам по бокалу из уже открытой другой бутылки. Сьюзен хлопотала на кухне — просто потому, что любила хлопотать, производя впечатление на гостей. Я спросил Макса, сколько миль он накрутил сегодня.
В ответ он несколько натянуто улыбнулся, как улыбаются звезды спорта, когда их спрашивают, как идут тренировки.
— Сегодня тридцать. На обратном пути велосипед чуть не расплавился.
Макс, и это очень меня удивило, относится к тем людям, которым надо немного боли, чтобы испытать наслаждение от жизни.
Мэриэн явилась второй, на пять минут позже Макса, одетая почти так же, как и он, с такой же бутылкой вина. Невольные участники заговора пожали друг другу руки и принялись играть в игру «Угадай, кто я?». Потом прибыли Пирсоны, неся с собой все то же шабли, — видимо, в магазине «Би энд Джи» в тот день была распродажа.
Джина была сильно взволнована — ей удалось что-то узнать о расследовании по поводу смерти Фолкнера. Один из ее аргументов состоит в том, что лечащий врач подчистил историю болезни во время между разговором с родственниками и написанием официального отчета о смерти пациента. Именно он сделал укол морфия Фолкнеру после несчастного случая, и надо было выяснить дозу. Теперь ее занимал вопрос о том, жив ли еще следователь, который вел то дело.
— Ну, в те времена морфий вводили не по науке, — академично заметил Стенли. Потом он пустился в пространные рассуждения о том, как именно тогда вводили морфий. Стенли много знает о психотропных лекарствах и их неврологических эффектах. Он также авторитетно рассуждает и о многих других вещах, но всегда становится не по себе оттого, что он все на свете в конечном счете сводит к неврологии. Например, когда в его поле зрения попадает человек в плохом настроении, то он сразу предлагает снадобья, улучшающие расположение духа.
— Думаю, что жена Фолкнера была морфинисткой, — заметил Макс с боковой линии.
Джина одарила его заговорщическим взглядом.
— Она была весьма посредственным художником, это я знаю, — произнесла Мэриэн, протянув пустой бокал, который я поспешил наполнить. — У нее начисто отсутствовало чувство перспективы.
— Именно, она женила его на себе. — Это был уже мой вклад в дискуссию, но единственное, чего я удостоился, — это укоризненного взгляда Сьюзен. Впрочем, мое замечание направило разговор в другое русло — все принялись обсуждать вопрос о потребностях гениев, а так как я уже слышал, что думает по этому поводу Джина, то отправился накрывать на стол. Когда я вернулся, разговор совершенно магическим образом перекинулся на проблемы отношений с администрацией. Наш теперешний канцлер, следуя вековой традиции, считал преподавателей предметами одноразового употребления.
Через полчаса мы принялись за еду и заговорили о самых слабых наших студентах. Джина живо откликнулась на эту тему — она оттрубила в аудиториях «Оле Мисс» пятнадцать лет. Мой стаж был скромнее — всего три года, но мне представляется, что есть некая корреляция между стажем и злостью на студентов. Вероятно, Стенли смог бы пояснить, какая часть мозга отвечает за злобу. Мэриэн опасливо хранила нейтралитет, а у Макса не было вообще никакого мнения, так как ему только предстоял первый в его жизни семестр.
Еда была восхитительно вкусной, за что мы без устали хвалили Сьюзен; ужин подходил к концу, когда кто-то задал Максу неизбежный вопрос о том, как он привыкает к жизни на Юге. Меня об этом тоже спрашивали до тех пор, пока я не научился уклоняться от ответа, говоря, что мне нравится все. Должно быть, Макса спрашивали об этом уже раз десять, но он каким-то образом ухитрялся каждый раз искренне отвечать на один и тот же вопрос, и именно тогда я окончательно понял, что он, вероятно, хороший учитель.
— На самом деле, — начал он, — мне здесь многое нравится. Юг очень выгодно отличается от Нью-Йорка. Ритм жизни здесь свободнее, люди более дружелюбные…