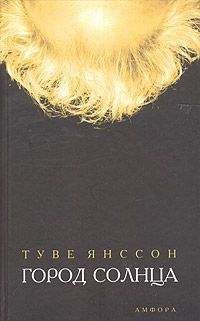1
По ночам у меня частенько побаливают суставы пальцев, разбитые в боксе. Обычно так бывает, когда к нам в город приходят затяжные дожди.
Я тогда лежу и думаю. Удивительно ясно думается ночью, в дождь.
И никому нет дела до того, что ты себе вообразишь. Ты можешь встретиться и говорить с теми, с кем уж не встретишься и не поговоришь на земле; можешь побывать там, где никогда не побываешь.
От этого не становишься счастливее, но несчастнее тоже не становишься, потому что все забывается утром.
В последнее время я все чаще навещаю Москву своих семнадцати лет. Позванивают трамваи, цокают копыта по желтому булыжнику. В кино «Арс» на Тверской идет «Праздник святого Иоргена», и Алешка врет, что видел своими глазами живого Игоря Ильинского на Остоженке, что тот будто бы шел, как все люди.
Москва пахнет солнцем и пылью. Мы валяемся на крыше, и солнца вокруг так много, что кажется весь город загорает, подставив жаре бугристую сильную спину.
Мы валяемся на крыше, и Борька читает вслух, как побледневший от потери крови благородный Атос, переложив шпагу в левую руку, продолжает драться с гвардейцами кардинала. Нам известно все, что будет дальше. Но это неважно.
Алешка сегодня в дозоре. Его обязанность следить за тем, какой груз привозят битюги на наш двор, прилегающий к большому магазину.
Магазин этот полон для нас романтики открытий и он же — источник доходов. Серая башенка, возле которой мы лежим, перекрещена брызгами пуль 1917 года. В башенке мы в свое время нашли скособоченный тупорылый пулемет «максим» и пропасть стреляных гильз. А недавно комендант дома Леонид Васильевич обнаружил в подвале под разным хламом несгораемый шкаф. При свечах резали автогеном толстенную стальную дверцу. Белые пятисотрублевые «катеньки» и сторублевые «николашки», аккуратно перевязанные стопками, выглядели равнодушно и устало.
— Куда ж их теперь?
— Дайте нам!
Мы в них немного поиграли. И бросили: не придумаешь ничего.
Магазин для нас средство подзаработать.
— Три полка́ с ящиками, — сообщает с поста Алешка.
Ящики — это дело. Мы стаскиваем на чердак, где пляшет веселой пыльцой солнце, рогожки, на которых лежали, чтоб не жечь животы и бока.
Возчики — народ степенный. Им пошабашить охота, забраться в тенек. Надо бы разгружаться, да уж больно солнце морит. Девчонка у грузового лифта исходит бранью:
— Чертушки проклятые. Подавай подводы, говорят вам!
— Подождешь…
Мы тут сидим у стенки, делаем вид, что заняты только тем, как бы прижечь незаметнее Алешке волосы зажигательным стеклом, а до другого нам и дела нет. Голубые сизари снуют под мордами лошадей, подбирают овес, падающий из торб, с мягких, сонно жующих губ. Косматый битюг Васька, известный своим беспокойным и злым нравом, начинает баловаться: косит лиловым глазом сквозь путаную густейшую челку, шаг за шагом подбирается к задремавшему меринку, и вдруг, по гусиному вытянув шею, цапает того за бок. Раздается ошеломляющий неожиданно тонкий визг. Визжат оба. Васька от восторга, меринок от жуткой обиды.
Хозяин баловника, клещеногий мужик унимает жеребца:
— Балуй, зверюжина!
Покой двора нарушен. Голуби, прянув на карниз, укоризненно крутят головами.
— Огольцы! Подьте сюда…
Это нас. Делегат отправляется на переговоры. Обратно возвращается ходко. Шуточки в сторону.
— Сулят зелененькую!
Начинается работа. И наступает мое время. Я становлюсь тут командиром и хозяином. Приятели смотрят в рот с полной готовностью ловить на лету каждое мое слово. Я сильней других, каждый это знает. Чувствуя всякий раз приятное посасывание под ложечкой от сознания своей значительности и власти, я подаю хриплые и короткие команды. Я нетерпелив и полон презрения, когда кто-нибудь переспрашивает: «Чего сказал, Коля?» Я могу позволить себе все: ругнуть, дать пинка, и никто не вздумает пикнуть, потому что сейчас я командир и хозяин и от меня зависит «зелененькая». Что ты сейчас можешь, интеллигент Алешка со своей головой, набитой радиосхемами? Отойди вон туда, сматывай канат с брезента, сказано тебе. Ты потом можешь сколько хочешь важничать и задаваться, звать или не звать к себе слушать радио. Сейчас сматывай веревку, да не бойся испачкаться, раззява!
Ящики длинные, с пахучими опилками, в которых лежат, рядками хрупкие яички. Может, думаете это просто — взять такой ящичек и переложить с подводы на площадку грузовой клети?
Я не спеша подхожу к подводе, и злющий жеребец Васька, прижавший было уши и качнувший раза два оскаленной мордой, вдруг успокаивается и, глубоко вздохнув, прикрывает длинными ресницами подобревшие глаза: ладно, мол, действуй, парень. В эту минуту я ничуть не опасаюсь Васьки, мы оба знаем, что ничего не случится, если даже мне понадобится ступить на оглоблю и опереться рукой на влажный, чуть вздрогнувший круп.
Я командую ребятам, чтобы влезали с другой стороны на полок и потихоньку подталкивали первый ящик на меня.
— По малу, говорят вам!
Они там возятся и пыхтят вчетвером, и я вижу, как у них дрожат от натуги руки и физиономии делаются испуганными и красными. Мне смешно, но смеяться нельзя. Я осторожно принимаю двигающийся на меня длинный ящик, держу свесившийся его край на вытянутых руках и жду, когда ребята спрыгнут с полка и обегут вокруг. Рыжая Зойка, лифтерша, умеющая при случае похлеще возчиков послать подальше, причитает по-бабьи:
— Тихонечко, Колечка, держись, держись…
Она, конечно, дура, эта девчонка. Что значит — держись? Но это неплохо, что она причитает. Кажется, там еще кто-то есть? Да, поднакопилось-таки зевак. Вышел мясник с ножами, ножи не точит, глазеет. Небось думает: вот это парень, вы только посмотрите какой силач, цирк прямо!
Это было мое время. Ребята едва поспевали накладывать ящики мне на спину.
Тощает на глазах воз. Васька потянулся в оглоблях, удивился — до чего же легко стало.
— Балуй, черт страшный!
Подходят возчики, времечко приспело рассчитываться. Я нарочно не стираю пот с лица, пусть видят, как поработано.
— Не многовато, огольцы, трешницу-то?
— Что ты! В самый раз…
Вынимается, наконец, «зелененькая», комочком, теплая. Само собой, выручку принимаю я, это уж закон.
И мы поспешно уходим. У нас теперь дел по горло. Надо трешку тратить. Надо посоветоваться, чтобы с умом тратить, а не так себе. Первое, конечно, на Москву-реку, лодочку возьмем часа на четыре, а то и на пять. Будет солнечная рябь слепить глаза, и вода холодком взбодрит тело, когда мы ухнем прямо с лодки в реку, и станут накатываться широкие, с бурунчиками волны от идущего мимо буксира, и мы, кто быстрей, поплывем и схватимся за толстый и скользкий, слегка провисший над водой канат, и может, удастся забраться по канату на баржу с песком или гравием и немного проехаться, пока не прогонят. Будут тихо плыть мимо березы Нескучного сада, сбегающие белыми и длинными ногами к воде, будто им тоже хочется влезть по шею в воду, в этот жаркий, недвижно стоящий день.
Мы непременно возьмем лодочку. Возьмем до вечера, до той поры, когда станет зябко на реке и остынет жар купола Ивана Великого, когда захочется к огням и к людям.
2
Наташка любила бывать в Сокольниках. Часто мы отправлялись туда. Трамвай трусил не торопясь по тесной Мясницкой, на стенах домов еще проглядывали слинялые от дождей призывные купецкие слова; потом сердито и шумно пробирался сквозь сутолоку трехвокзалыюй Каланчевки и, вырвавшись на простор, набирал ход, будто чуя близкий дом и отдых.
Да, она была уже тогда, Наташка. Были ее теплые коричневые глаза и манера хватать за руку, когда что-нибудь очень нравилось: «Слушай, как тихо!» Я относился к ней, как к чему-то несерьезному, но подходящему: «Чего слушать, раз тихо?» Ей чудилось, что рядом вздыхает лось, тогда как это была пестрая комолая коровенка. Она видела следы на траве и говорила, что это сегодня ночью шел царь Петр в свое Преображенское, тогда как я и следов никаких не видел.
Мы с ней познакомились весной. Их школа была напротив нашего двора, через улицу. Меня в свое время выгнали из этой школы за то, что, начитавшись Гоголя, я накрыл своим тулупчиком не чернобровую дивчину, как предполагалось, а старенькую учительницу немецкого языка Альвину Ивановну. Напрасно я оправдывался, что было темновато. Естественно, я затаил некоторую неприязнь к школе. То, что меня не пускали даже на школьные вечера, казалось мне грубым нарушением прав человека и гражданина.
Так вот в один из таких школьных вечеров мы с Алешкой и Глебкой пролезли туда, и я сидел на подоконнике, совсем близко к сцене. Мне было видно, как за занавеской мельтешатся и как Любовь Николаевна, учительница математики, высокая и тощая, с брелком, все прикладывает пальцы к вискам.