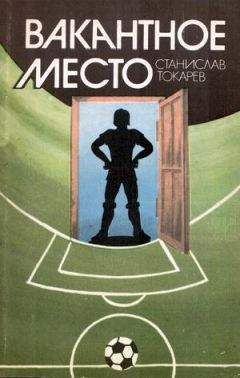Но разве Ирина поймет?
— Павлик, — шепотом крикнула она, — ты меня стыдишься?! А я-то, я хотела тебе варенье варить, я час в очереди стояла…
— Завтра, завтра будем варить варенье, все будем, а сейчас давай, давай, некогда мне с тобой, сидит же он там…
Он захлопнул дверь, прислушался и услышал, как медленно, а потом все быстрее стучат ее каблуки.
Дядя Федя стоял возле стеклянного шкафа и рассматривал расположенные на куске синего бархата медали и жетоны Соколова.
— Это что же, все золото? — спросил он, щелкая ногтем по стеклу.
— Да нет, — засмеялся Соколов, чувствуя облегчение от того, что удалось все-таки спровадить Ирину. — Только называется «золотая медаль». Сплав такой, под золото.
— Не все, значит, золото, что блестит? А я давеча в государственном универмаге внучке часы приобрел. Золотые, и проба есть.
На сей раз прозвенел телефон.
— Павлик, — коротко дыша, заговорила в трубке Ирина, — ты можешь спуститься вниз на минуту? Мне надо очень важное тебе сказать.
Вот привязалась! И ведь будет звонить, если не выйдешь!..
Наврав что-то в строгие дяди-Федины глаза, Павел сбежал вниз. Ирина стояла в парадном возле автомата, разложив на полу покупки. Рядом на колченогом стуле сидела и вязала чулок лифтерша в валенках с калошами.
— Павлик, я тебя долго не задержу, я хочу тебе только сказать, что все, все, с меня хватит, я вот так сыта, я унижена тобой, как не знаю кто, все, Павлик. Мне давно предлагает замуж один хороший человек, все, Павлик, прощай…
— Пакетики забыли, барышня или дамочка, — ворчливо проговорила ей вслед лифтерша. — Павел Иваныч, с пакетиками-то как будет?
— Возьмите себе! — крикнул он с лестницы. И подумал на бегу, что вернется Иринка, никуда не денется.
Накануне соревнований Василий Матвеев ночевал у Андрея Ольшевского.
— Не спишь, Андрюха?
— Луна мешает. У, желтый глазище!
— На Луне, знаешь, вулканы открыли. Ты что это в окно кидаешь?
— Это я в луну. Представляешь: бомм — медный звон на всю вселенную. Осколки в сторону. И полная темнота.
— Трепло, а как же приливы и отливы?
— Боже мой, как я мог забыть! Оставить человечество без приливов и отливов и даже без лунатиков! Спасибо тебе, Вася, от имени шести частей света.
— Слушай, а чем это ты кинул?
— Так, гаечка какая-то завалялась.
— Какая гаечка? Чокнутый, это, наверное, моя! Где у вас выключатель?
— Да спи, пошутил я.
— Что-то не спится… Ничего, выиграешь послезавтра, вот тогда я посплю.
— Вась, ну ладно, допустим, я выиграю, мне — билет во Францию, а тебе что? Что ты так за меня молишься?
— Как что? Почет.
— От кого?
— От самого себя.
— Только-то?
— А что? Я люблю самого себя уважать.
— Немного же тебе надо.
— Кому что. У нас малый есть один в заводоуправлении. Такой чудак! Очень за футбол болеет. Раз пришел я к нему бумажку подписать. Весной было. Он сидит, таблицу чертит. «Ну, — говорит, — товарищ Матвеев, жизнь начинается. Будем скоро с тобой футбольные таблицы заполнять». «А я, — говорю, — не буду». — «Неужели не интересуешься?» «Нет», — говорю. Удивился. Подумал, подумал, потом спрашивает: «Слушай, а, например, лотерейные билетики ты покупаешь?» — «Нет, не покупаю». Он опять подумал, а потом и говорит: «Слушай, Матвеев, а есть у тебя хоть какие-нибудь страсти?» Такой чудак!
— Для чего ты это мне рассказал?
— Так, к слову. Спи давай.
— Интересно, что видит сейчас во сне Пашка Сокол?
— Ничего. Он, наверное, никогда снов не видит.
— А Калныньш?
Васька надолго замолчал. И когда Андрей решил уже, что он уснул, ответил негромко и улыбчиво:
— Старик видит себя молодым. Ты этого еще не понимаешь.
Ни в том ни в другом случае Матвеев не угадал. Павел Соколов метался головой по смятой подушке и мчал вдоль кромки трека, а вслед, в каких-нибудь сантиметрах позади, бесшумно летела за ним и бесшумно смеялась маленьким треугольным ртом физиономия Быбана со шлемом, надвинутым на круглые и неподвижные фарфоровые глаза. Так уж спится в полнолуние — беспокойно и тяжко.
А Калныньш вовсе не спал. Клавдия уложила его силком и сама села качать кроватку Дзинтарса, и на стене шевелился ее рогатый от бигуди силуэт, а Дзинтарс надрывался и всхлипывал — вчера ему впервые привили оспу. Калныньш знал, что заснуть необходимо. Он закрыл глаза и попытался увидеть море, большое и сверкающее, и янтарную прибрежную косу, и точки сейнеров на той дальней грани, где темная синева переходит в светло-белесую. Сейнеры ушли, а Калныньш так и не уснул до рассвета, когда наконец успокоился его сын.
Васька проснулся в восемь и тут же растолкал Андрея, и они десять минут, пыхтя, приседали, бегали по коридору, наклонялись, махали руками, а потом Васька поднял Андрея под мышки, втолкнул под холодный душ, запер ванную снаружи и стал жарить глазунью из шести яиц, которые вчера предусмотрительно захватил из дому.
В девять позвонила Ксеня. Васька вырвал у Андрея телефонную трубку и, отпихивая его локтем, быстро сказал, что все у нас в порядке, настроение бодрое, а увидеться с нами можно не раньше пяти часов, возле трека, понятно?
Она засмеялась и ответила, что ей все понятно, есть — возле трека, будет исполнено, товарищ командир. Васька повесил трубку и гневно спросил Андрея, почему это тот не дает ему полюбезничать с девушкой. «Что это за штучки такие? Вот отобью, будешь знать! У меня по этой линии полный ажур», — добавил он без особой уверенности.
Полный Васькин ажур заключался в том, что он время от времени влюблялся в какую-нибудь красотку из сборной страны и начинал помогать механикам готовить к соревнованиям ее велосипед. Делал он это серьезно, даже мрачно, ни взгляда не роняя на владелицу, так что она волей-неволей никак не могла проявить ответных чувств. Больше того, когда одной его пассии подруги разъяснили, что Васька весь прошлый год за ней бегал, она искренне изумилась.
Ровно в пять Ксеня ждала Андрея у ворот стадиона Юных пионеров. Он появился не снаружи, как она предполагала, а изнутри — бежал по дорожке в красном с белым верхом тренировочном костюме и в белой шапочке козырьком назад. «Пойдем скорей, а то разминка начинается». Они спустились в люк, где пахло сыростью, а за открытыми дверями боксов поблескивали рули и колеса, прошли по коридору и стали подниматься вверх, ко входу на трек.
— Молодой человек, а девушка куда, — въедливо поинтересовался пожилой контролер, преграждая им дорогу.
— Это со мной. Пойдем, Ксеня.
— Чего, чего «со мной»? Не положено посторонним.
— Да кто посторонний? Со мной, говорю.
— Подумаешь! — с удовольствием сказал контролер. — Вас тут вона — целый батальон. Не имею таких прав всех пропускать.
Пришлось вернуться вниз.
— Андрюша, я лучше на трибуну сяду, я возьму билет.
Уши его побелели.
— Погоди здесь. Сейчас пропуск принесу. Врезал бы я этому деду.
— Кому это ты собираешься врезать? — спросил, проходя мимо, Соколов, голова закинута, на круглой шее — складочка, зубы сверкают, сверкает всем солнечным спектром велосипед итальянской марки, а на шапке, над козырьком, латинскими буквами написано: «Чемпион». — Что, не, можешь девушку провести? А ну, посмотрим, может, у меня получится. Шагай вперед, мы сейчас. — И он крепко взял Ксеню повыше локтя.
— Паш, ну нельзя ведь, — просительно сказал ему контролер, уже не заслоняя дороги.
— Тихо, старик, тихо. — Соколов шепнул ему что-то на ухо.
— Но ведь…
— Тихо, тихо. Все в порядке.
И они вышли на трек, в самый его центр, в сочную росистую траву.
— Что вы сказали этому дядьке?
— Какая разница? — Соколов победно засмеялся. — Сказал, что вы моя двоюродная тетя.
— И он поверил?
— Я же говорю — какая разница? Вам важно, что вы здесь. А ему важно, что моя. Понимаете — моя?
На самом деле только это и шепнул контролеру Соколов, наклонив близко к его лицу свой лихо подмигивающий глаз. «Понял, будет моя». И старик собрал морщины, любовно обозвав Соколова прохиндеем.
— Если у вас имеется сестричка, похожая на вас, приводите завтра. Здесь любят моих родственников, — добавил Соколов, ставя ногу в туклипс и мягко садясь в седло.
Но ему было вовсе не так весело и легко, как старался он показать всем, и себе главным образом. Три желтенькие папки с выездными документами были полностью оформлены, и начальник международного отдела ждал только телефонного звонка, чтобы переслать одну из этих папок в МИД, откуда курьер повезет бумаги в посольство для получения визы на въезд во Францию. Может быть, уже завтра начальник равнодушно отберет одну из трех папок, а остальные две сунет в шкаф, где желтеют сотни таких же. Ему безразлично, дело Калныньша посылать, Ольшевского или Соколова.