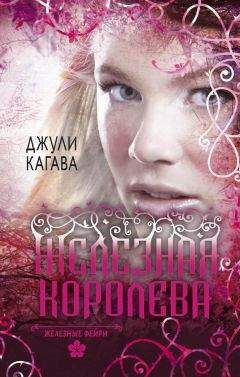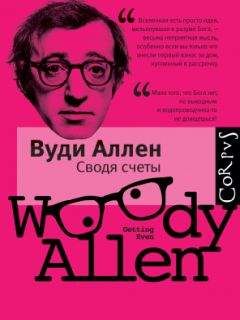Чем была мила для нас редакция, так это тем, что в нее на огонек стягивались люди. Не проходило дня, чтобы нас кто-то не навестил с разговором. С рукописью — это само собой, но и с разговором, свободным, о чем угодно. Незаметно, между делом, можно было узнать все, что хотелось. Уроки «геометрии» футбола — из легких, внешняя сторона игры больших разноречий не вызывала. Но почему так, а не иначе складывается матч равносильных команд? Я не знаю, как назвать «предмет», отвечающий на этот вопрос. Но он наиболее увлекательный, и, чтобы «успеть», требуется знать побольше, чем предлагают тренеры в скучных послематчевых интервью.
Не раз бывало: минут за десять до телетрансляции важной встречи звонил мне домой Валерий Воронин.
— Что вы думаете?
Я отвечал, что, по-моему, выиграет такая-то команда.
— Ага, понятно. У вас перед глазами, как здорово она сыграла в прошлый раз. А вы не допускаете, что тренер перестроится: «Этот противник посильнее, сыграем иначе, поосторожнее»? Он же трусоват. Ах вы не знаете? Я же против него играл, можете мне поверить. Позвоню в перерыве, ладно?
Звонок в перерыве.
— Что я вам говорил! Не играют, одна работа, без проблеска. Смотрю и соображаю: кто сломает установку? Мог бы Володька, да у него положение шаткое — как бы не выскочить из состава. Нет, ничего им не светит, один пропустят. Мрет наш футбол от таких тренеров. Если 0:1, я больше не позвоню. Скажите, вам пригодится, что наговорил бывший игрок сборной, а?
Воронин не угадывал — он видел. И когда играл, весь матч мог объяснить, и с трибуны улавливал глубинную связь событий. Талантливый у него был взгляд, проницательный.
Не знаю, обучают ли на факультетах журналистики чувству дистанции. Дистанции между репортером и его героями. По-моему, это одна из важнейших тонкостей нашей работы. Вряд ли что-либо можно точно рекомендовать: дистанцию подсказывают натура, воспитание, такт. Но без нее не обойтись.
Был я со сборной в Сантьяго. Турне было долгим, шло к концу, и все мы скучали по дому.
Стук в дверь. Просыпаюсь: на часах начало первого. Ошибся кто-нибудь?» Открываю: перед дверью Михаил Месхи, Слава Метревели, Анзор Кавазашвили, Муртаз Хурцилава, Сергей Кутивадзе — грузинская часть команды, все при параде, в пиджаках, галстуках.
Миша Месхи негромко:
— У нас к вам просьба, поедемте с нами в гости.
— А вы знаете, который час?
— Знаем, раньше нельзя было, не позволили бы. Поедем: хороший дом.
— А зачем я вам нужен?
— Будете старшим.
Я понимал, что они уедут и без меня, нарушение распорядка все равно произойдет. Отговаривать смешно — не мальчики же.
— Старшим? Тогда извольте меня слушаться.
Руки легли на грудь, головы уважительно склонены.
Влезли в высокий, громоздкий лимузин, ждавший возле отеля, и покатили. Авантюра несомненная, но, уклонившись от нее, я упал бы в их глазах. Да и любопытно...Подъехали к коттеджу за забором. Вошли, из передней видна столовая с накрытым столом. К нам вышел приземистый, крепкий старик, лицом грузин. Мои спутники заговорили с ним на своем языке, горячо в чем-то убеждая. Старик выслушал и согласно кивнул. За его спиной не люди, а тени, его домашние, замелькали, разбежались. А мы вслед за хозяином спустились по лесенке в погребок. Кружочком несколько деревянных колод и посередине колода потолще, вместо стола. Расселись, а неслышные «тени» принесли тарелки, стаканы, вилки, закуски. Мои спутники отказались сидеть в столовой: им захотелось, чтобы было как дома — в погребке. Мы сидим, а два молодых человека стоят возле стены. На проспекте Руставели они были бы своими.
Миша Месхи наклонился ко мне:
— Представляете, его сыновья не знают грузинского языка...
— Не пора ли сообщить, где мы?
— Очень уважаемый человек. Давно, молодым, жизнь забросила в Южную Америку. Купил дешево бросовые земли на окраине. И угадал: сюда пришел город. Земли он продал, но с условием, чтобы одной новой улице дали имя Руставели, а другой — Льва Толстого. Участвовал в переводе «Витязя в тигровой шкуре» на испанский. Всю жизнь здесь прожил, а как узнает, что в Сантьяго кто-то приехал из Грузии, требует к себе.
Погребок — в стеллажах с лежащими бутылками. Хозяин, не поворачивая головы, вытягивал руку, и тут же сыновья приносили бутылку.
— Он уверял, что здесь сорта винограда точь-в- точь как на родине. Не сомневайтесь, мы пить не станем, продегустируем, проверим.
Так и было. Шел разговор, в котором я не мог принять участия, а грузинская делегация, как и хозяин, получала удовольствие.
Спустя время, сверившись с часами, я постучал пальцем по колоде и произнес: «Конец. Поехали». Ни один не попытался отговорить. Что-то объяснили хозяину, кивнув в мою сторону, и встали.
Наверху нас отвели в маленькую комнатку, где стоял огромный сундук. В нем — рулон белого полотна. На нем мы расписались.
— Женщины потом вышьют,— пояснил мне Месхи.— Здесь расписывались все, кто побывал у него в гостях,— музыканты, танцоры, ученые.
Лимузин доставил нас в отель, и мы неслышно разошлись по номерам, чтобы утром собраться за завтраком.
С тех пор ни один из моих спутников по ночной вылазке не напомнил мне о ней, да и я им тоже. Роль старшего я исполнил, дистанция не нарушилась.
Мне не дано работать интервьюером. Две-три попытки по крайней необходимости, неудачные, вялые. Меня подводило опасение, что досаждаю человеку расспросами, которые, вполне возможно, его не слишком занимают, а то и раздражают, было неудобно слышать ответы само собой разумеющиеся, как бы подсказанные, знакомые нам обоим по ранее читанному в газетах.
Что не судьба мне преуспеть в этом жанре, я понял очень давно, во время своей первой службы, в журнале «Советское студенчество». Было это зимой 1947 года. Получил задание добыть отрывки из мемуаров генерала Игнатьева и заодно взять у него интервью. Навестил я бывшего графа у него дома, в проезде Серова, отрывки из еще не напечатанного он мне дал, а об интервью я и не заикнулся. В редакции остались довольны материалами и на радостях про интервью не вспомнили. А я, сидя у Игнатьева, размышлял: «Какие я ему могу задать вопросы, когда человек пишет мемуары? Да и что я о нем знаю, чтобы мои вопросы оказались уместными?»
А дома я, сам не зная зачем, занес на листочек впечатление о встрече. Листочек чудом сохранился.
«Стояли жуткие морозы, я ходил в валенках, в них и заявился к генерал-лейтенанту Игнатьеву, автору нашумевшей книги «Пятьдесят лет в строю». Ступив в передней на паркет, спохватился неуместности своей обувки, переминался с валенка на валенок. Даже не сразу разглядел человека, открывшего мне дверь. А он был огромен и ростом и в ширину, в цветастом халате, подпоясанном поясом с кистями. И первое, что я услышал:
— Вы в валенках? Вот это — по-русски! Наслаждение-то какое — валенки!
Он отвернул полу халата и показал мне, что и он обут в валенки. И тут же басовым раскатом крикнул: «Наташа, к нам пришел комсомолец!» В дверном проеме показалась его жена, Наталья Владимировна, взглянула на меня испытующе и вымолвила: «У вас симпатичное лицо». Как ответить на комплимент графини, я понятия не имел.
А тут и граф присоединился: «Вы носите настоящую русскую фамилию. Я в молодости знавал земского врача, вашего однофамильца: милейший человек, а уж какой доктор, и не передашь — волшебник».
На этом мои испытания не закончились. «Наташа, мы сейчас к нашему спору привлечем комсомольца, он пустые любезности говорить не станет». Передо мной была распахнута дверь в гостиную. «Взгляните, преподнесли мне мой бюст. Что скажете?» Бюст мне показался узким, осторожным, тщательным. К генералу я уже пригляделся и потому позволил себе пожать плечами. «Ясно! Молодчина! — загремел генерал.— Скульптор меня побаивался, словно под моим началом в полку служил». И — ха-ха-ха — шаги по железной крыше.
Мы обосновались в кабинете: Алексей Алексеевич — в кресле за миниатюрным, с резьбой, старинным письменным столом, я — сбоку на стуле. Он принялся читать отрывок, который предназначил для журнала, а я не столько слушал, сколько глазел. Спине он не давал гнуться, вскидывался, выправляя осанку; нос прямой, крылатый, барельефный; глаза чуть навыкате, с аристократической наглинкой; руки крупные, тяжелые, умны сами по себе, знают, когда подняться, куда лечь.
— Как это место, убедительно, а? Рад, что вы меня поняли!
Чего только не повидал семидесятилетний человек, кем только не был, с какими людьми не встречался, кавалергард, придворный, участник русско-японской войны, военный атташе России во Франции, советский генерал.
В перерыве чтения, который он себе сделал, чтобы привести в порядок дыхание, я спросил, указав на висевший на стене изукрашенный рулон: «Что это?»
— Меню обеда во время коронационных торжеств при восшествии на престол Николая II, — несколько небрежно ответил Игнатьев.