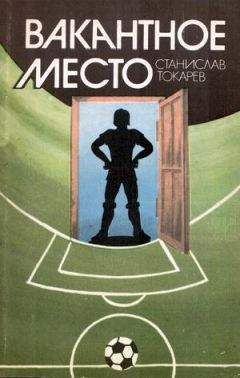Калныньш вообще очень много ел, чем тяготился всегда, еще с детдомовских времен. Он стеснялся своего огромного тела, своей силы, здоровья, тяготился тем, что легко мог в гонке при случайном столкновении с кем-либо серьезно того покалечить, и его сверхаккуратный стиль выкристаллизовался, быть может, именно из-за этой особенности его характера.
…Андрей Ольшевский и Василий Матвеев ходили этим утром в кино. Смотрели картину из жизни современной молодежи. Судя по картине, современная молодежь жила не скучно: гуляла в полосатых свитерах и модненьких платьицах, пила вино (сухое!) и танцевала под бульканье электрогитары, а в промежутках вкалывала у станка и проявляла взаимопомощь и взаимовыручку. Андрею картина не понравилась.
— Надо же, какая чушь! — говорил он за обедом Ваське Матвееву. — Помнишь ту сцену, когда они надумали в троллейбусе политинформацию проводить? Один читает в газете: «Голод в Индии». И тут все эти жлобы пригорюнились, а другой басом выдает: «Предлагаю отработать смену для Индии. Кто „за“? Кто „против“? Единогласно!» Помнишь?
— А что? — сказал Васька, деловито дуя на суп. — У нас работали.
— Я не о том. Иногда самые правильные вещи говорят так, что тошно делается. У тебя было когда-нибудь такое чувство, что буквально тошно от правильных вещей?
Васька задумчиво подергал ус.
— У нас парторг участка такой мужик: вот, допустим, план горит, так? Он в обед сядет с рабочим классом, покурит, «козла» забьет, а потом говорит: такие-то и такие дела. Я вас, говорит, за коммунизм агитировать не буду, вы и без меня грамотные. Но надо поднатужиться. Надо! Дошло? Напишите на бумажке, что вам нужно для бесперебойной работы, а цех заготовок я сам за хобот возьму. Вполне деловой разговор. Как отказать? Плюнешь, заругаешься, а поднажмешь и сделаешь. Ну ладно, будет тебе по пустякам заводиться. Подумаешь, кино. На то оно и кино. Сейчас пообедаешь и ляжь часок полежи, только не спи ни в коем случае, а то вялость появится в организме. Лучше почитай, у меня интересная книжечка есть, как чудак через океан на резиновой лодке плыл. Только верни, мне самому на пару дней дали.
Ольшевский с завистью смотрел на Соколова. Соколов только-только выиграл заезд, причем с трудом, «на зубах», каких-нибудь полколеса, и не у сильного соперника, а так себе, у середнячка. Другой бы в подобной ситуации долго еще шлялся по треку, приставал ко всем с разными маловажными разговорами, предлагал свою никому не нужную помощь, выслушивал советы и сам их давал — одним словом, старался унять, перебороть возбуждение и показать другим, что он в полном порядке, и все ему хоть бы что. Некоторые еще начинают усиленно разминаться, разогреваться и крутят на станке с таким видом, будто здесь все и решается, на валиках, которые хоть и стрекочут и летят под колеса, а все равно остаются на месте, и ты на месте тоже. А Соколов просто лежал на скамейке, подложив руки под голову и прикрыв лицо носовым платком, и свежие складки на платке ровно колебались от его дыхания. Вот это нервы, черт побери! Вот это нервы!
Ольшевский сжал кулаки и мякотью ладоней ощутил, какие у него холодные и мокрые пальцы. Он зевнул и свел лопатки.
— Говорил, не спи после обеда, — проворчал Васька.
Андрей, между прочим, и не думал спать.
Калныньш ехал по траве, неторопливо двигая широкими, в позолоте щетины коленями. Белый шлем был низко надвинут на его сведенные брови, и по глубокой поперечной складке между ними качалась треугольная тень брелочка, привязанного к шлему. Только тень и казалась живой на неподвижном и сосредоточенном лице Калныньша. В полуфинале он встречался с Ольшевским.
Хлопнул выстрел, и почти сразу же еще два подряд. Фальстарт. Это Матвеев поторопился вытолкнуть вперед машину Ольшевского. «Еще раз, и ваш участник будет снят», — сурово сказал Матвееву молоденький судья, которого в обычное время все звали просто Кузей и посылали за пивом. Спринтеры прокатились нейтральный круг, встретились на прямой, Калныньш чуть-чуть улыбнулся, отнял руку от руля, провел ею по лбу и стряхнул ладонь — мол, вспотел даже. Ольшевскому было зябко.
Второй старт оказался удачным. Они тронулись разом и медленно пошли вдоль бровки, потом так же медленно взобрались на вираж, к барьеру, и зрители увидели вблизи их лица со скошенными друг на друга глазами. «Давай, давай!» — сорвался петухом мальчишеский голос, но его никто не поддержал. Впереди и слева от Калныньша светилось в закатных лучах большое оттопыренное ухо Ольшевского, и Калныньш весело подумал, что это хороший ориентир. У него было совсем неплохое настроение. Он знал: сделает все, что может.
Синее пятно справа за спиной Ольшевского было Калныньшем. Кажется, летучие мыши обладают способностью ощущать на расстоянии контуры предметов. Для Ольшевского мир сконцентрировался сейчас в этом синем пятне, размытом по краю, поскольку видно оно было лишь уголком глаза. Но и спина, и плечи, и шея, и затылок, скрытый под кожаными полосами шлема, словно стали локаторами, от которых не ускользало ни одно движение Калныньша.
У второго виража стоял, глубоко засунув руки в карманы замшевой куртки, и неотрывно вел свои очки вслед за спринтерами тренер Олег Пашкевич. Рядом присел на корточки и, торопливо чертыхаясь, сучил руками в черном мешке мальчишка-фотограф. Неподходящий он выбрал момент, чтобы перезарядить аппарат!
Тоненько затараторил колокол, гонщики пошли быстрее, взмыли на вираж и вынеслись на прямую, полоснув толпу внутри трека опасным холодком схватки. Снова вираж. Они поднялись к барьеру. «Пора», — не подумал, не понял, а почувствовал Калныньш и, пригнувшись, направил машину вниз, к бровке. И успел только заметить, что вкось не рядом, как надо, как положено, как только и можно, а именно вкось, под острым углом — на него летит колючий блеск переднего колеса машины Ольшевского. Сейчас они столкнутся. Калныньш рванул руль вбок, в лицо кинулись вздыбленная зелень травы и черный комок, который был парнишкой-фотографом, так и не успевшим выпростать руки из мешка. Ударили судейские выстрелы — один, другой, третий, пока не кончилась обойма, испуганно захрипели динамики: «Заезд остановлен, внимание, заезд остановлен!»
Ольшевский пересек белую черту финиша и шагнул с седла на неловко подвернувшуюся ногу. Тяжело, словно после бега, дышащий Матвеев взял машину за раму. От виража шли две небольшие толпы, внутри которых колыхались носилки. На одних был Калныньш, а кто на других, Ольшевский не знал. Позади тренер Олег Пашкевич нес на плече велосипед с вывернутым в восьмерку передним колесом и в руке какой-то черный мешок.
Ольшевского грубо толкнули в плечо. Он обернулся. Перед ним стоял Соколов. Стоял и щурился.
— Ты что же? — раздельно спросил Соколов. — Ты таким путем? Ты дорожку себе расчищаешь? Учти, сволочь, это тебе так не пройдет.
Полчаса спустя радио объявило, что поскольку Айвар Калныньш не сможет продолжать соревнования, а Андрей Ольшевский за намеренный кроссинг дисквалифицирован, финал спринтерской гонки не состоится. Звание чемпиона страны присваивается заслуженному мастеру спорта Павлу Соколову.
Медленно идет автобус. Дорога на Москву прочно забита — много разного везут в Москву, много ей всего надо. Везут молоко в огромных белых цистернах и коров, от которых, наверное, то молоко надоено, и коровы жмутся друг к другу и смотрят с грузовика большими печальными глазами и привычно машут хвостами, отгоняя мух и слепней, которых и близко нет — всех прогнала бензиновая гарь. Везут в Москву лес, бревна пружинно колышутся на прицепах. Везут помидоры и огурцы в дощатых ящиках. Везут в контейнерах тульские самовары, чтобы продавать иностранцам в магазинах сувениров. Сложную аппаратуру с харьковского электрозавода. И льва из симферопольского цирка — лев заболел, его надо срочно показать московским ветеринарным светилам, он рычит и скребет лапами клетку, и шофер гордо улыбается и говорит гаишникам в тех местах, где образуются пробки: «Пропустите, товарищ начальник, имейте совесть, мучается животное».
Ползет и ползет автобус. Подремывают гонщики, придерживая свои велосипеды. Ребята рано встали сегодня, они торопятся домой. Покачиваются головы, уложенные на плечи соседей. Автобус тормозит, и они просыпаются. Шоссе медленно переходит цепочка вислогузых гусей с нашлепками на широких носах. И кто-то из пассажиров вспоминает, как однажды в многодневной гонке какой-то парень-латыш устроил завал: сам свалился, а на него другие попадали. И когда у него спросили, почему он упал, он сказал, что птичка попала под колесо. «Какая птичка?» — «Ну, русский такой птичка. Забыл, как называется. Ага, вспомнил. Гусь».
— Кто же это был?
— Да Калныньш. Он тогда еще на шоссе гонялся.
— А-а, Калныньш. Не повезло вчера ему.