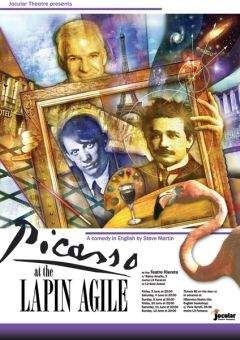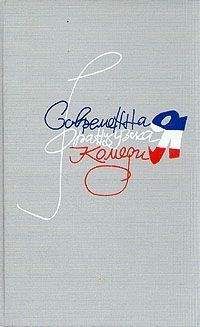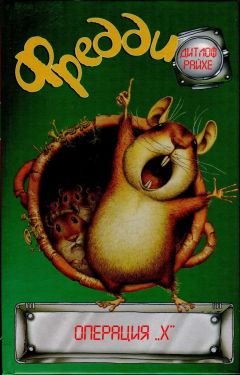ПИКАССО: Нет, скажи мне о мужчинах моего типа.
ЖЕРМЕН (присаживаясь): Постоянная женщина важна для тебя потому, что тогда ты уверен, что дома кто-то тебя ждет, если ты не сможешь заарканить кого-нибудь по пути. Ты ведь облизываешь взглядом каждую, не так ли?
ПИКАССО: Многих.
ЖЕРМЕН: Я сказала — каждую. Официанток, жен, ткачих, прачек, гардеробщиц, актрис, даже тех, кто прикован к инвалидным коляскам. Ты обращаешь внимание на всех, не так ли?
ПИКАССО: Да.
ЖЕРМЕН: И, когда ты видишь женщину, ты думаешь: «Интересно, какая она». Ты можешь качать на колене своего ребенка, но, если мимо идет женщина, ты спрашиваешь себя: какая она.
ПИКАССО: Продолжай.
ЖЕРМЕН: Если получится, ты за ночь переспишь с двумя, и не будешь чувствовать никакой вины. Правила не для тебя писаны, потому что они
устанавливаются женщинами, и правилам надо следовать, если хочешь, чтобы существовало хоть какое-нибудь подобие общества. Ты бросаешь одну ради другой, более красивой. Они находят тебя забавным, привлекательным, артистичным, неотразимым. Ты любишь молоденьких, потому что их легко одурачить, а они верят, что ты великий художник. Ты хочешь их, когда ты хочешь, никогда наоборот. После того, как ты их добиваешься, ты не можешь дождаться, чтобы уйти, или, если тебе повезет, и ты овладеешь ими у себя, ты не можешь дождаться, когда они уйдут, потому что, правда состоит в том, что после этого мы для вас не существуем, и все разговоры теряют смысл. Потому что мыслями ты уже далеко. Ты не достижим. Вся твоя жизнь — камуфляж. Но тебе везет, так как ты по-настоящему талантлив, и ты умен, чтобы этим не злоупотреблять. И, когда ты оставляешь одну, всегда появится другая, которая захочет быть с тобой. Словом, тебе никогда не придется завоевывать женщину, и ни одну ты никогда не поймешь и не оценишь по-настоящему.
ПИКАССО: Но я их понимаю. Я ведь их рисую, не правда ли?
ЖЕРМЕН: Это потому, что мы чертовски привлекательны, не так ли?
ПИКАССО: Жермен, мужчины желают, а женщины хотят быть желанны. Так было и так будет всегда.
ЖЕРМЕН: Все так, но почему так грубо? Кстати, я знаю, что ты использовал меня, но и я не осталась в стороне.
ПИКАССО: Как это?
ЖЕРМЕН: Отныне я знаю, что из себя представляет художник. А завтра ночью будут знать, что представляет из себя дорожный рабочий, журналист или продавец книг. Может быть, у дорожного рабочего и не найдется о чем поговорить с такой девушкой, как я, но я могу сочинить свой романтический сценарий и спроецировать как фильм на экран свои фантазии, как ты проецируешь свои на холст.
ПИКАССО: И что об этом думает Фредди? Кстати, почему ты с ним?
ЖЕРМЕН: С его недостатками я могу ужиться. И пусть редко, но он говорит нечто такое, что сладко щемит сердце. И потом, разве я не могу ничего дать деревенскому парню?
ФРЕДДИ: Вовремя я успел поймать этого сукина сына.
ЖЕРМЕН: Не совсем.
В бар влетает юная ФАНАТКА.
ФАНАТКА: Я слышала, что он придет сюда. Это правда? Скажите, это так и есть? (замечает ПИКАССО). О, мой Бог! Можно я подойду? Мне и вправду можно к вам подойти? (Двигается к нему). Не могу поверить в это. Что значит, быть таким, как вы? Я говорю, на что это похоже? (Пока она глядит в лицо ПИКАССО, ее поведение изменяется). Минуточку, вы не Бигмэн!
В негодовании идет к выходу. Уходит.
ПИКАССО: Вот и еще один приятный вечерок.
Блуждает взглядом по залу, останавливается на картине с овцами. Погружается в нее. В зал возвращается ГАСТОН.
ГАСТОН: Я сегодня понял нечто такое…
ФРЕДДИ: Что же, Гастон?
ГАСТОН: Ты взял парочку гениев, поместил их в одной комнате и…пожинаешь лавры.
ФРЕДДИ: Ты всегда найдешь верное словцо.
ГАСТОН: (горделиво кланяясь): Тогда, спасибо!
ФРЕДДИ: Я пошутил.
ГАСТОН: Я тоже. Впрочем, я ведь тоже гений, хоть и маленький.
ФРЕДДИ: То-то я его не заметил.
ГАСТОН: Иногда гений приходит из таких неожиданных мест…
Из туалета появляется ПОСЛАНЕЦ, певец из 1950-х, 25 лет. Он в голубых замшевых ботинках, черные волосы блестят от бриолина. Он стряхивает с плеч звездную пыль, с любопытством озирается вокруг. Все смотрят, как он идет к бару, смотрит на картину Матисса, идет назад, вращая бедрами перед ГАСТОНОМ, находит это смешным, садится.
ГАСТОН: Только не говорите, что и вы гений.
ПОСЛАНЕЦ: Вот еще!
ЖЕРМЕН: Выпьете что-нибудь?
ПОСЛАНЕЦ: Простите, мэм, я не пью. А у вас есть томатный сок? Я сам-то деревенский.
ЖЕРМЕН словно громом поражена, затем приходит в себя.
ФРЕДДИ: Сок у нас всегда есть. Его с чем-нибудь смешать?
ПОСЛАНЕЦ: С чем?
ФРЕДДИ: С водкой.
ПОСЛАНЕЦ: (хихикает): Шутите, дружище?
ЖЕРМЕН вновь чувствует слабость в коленках, но берет себя в руки.
ПОСЛАНЕЦ: Кстати, что скажите по поводу моих башмаков?
ФРЕДДИ: Каким ветром вас сюда занесло?
ПОСЛАНЕЦ: Ну, я люблю удивлять людей, знаете ли. Возникать там, где меньше всего ожидают, в супермаркетах, на ярмарочных площадях. Больше всего на свете я люблю появляться в кабинках, где можно сделать моментальную фотографию. Представляете, они берут фото, а на нем — я собственной персоной. Но я немного им надоел, поэтому решил чуток попутешествовать. Пожить в другом времени.
ГАСТОН: Смешайте его с водкой.
ПОСЛАНЕЦ (рассматривая посетителей кабачка): Вы смотритесь как одна семья…
ФРЕДДИ (обиженно): Одна семья? Какого черта?
ЖЕРМЕН: Да, что вы имеете в виду?
ПОСЛАНЕЦ: Ну, понимаете, дружелюбные, сердечные люди. В отношении посторонних.
ФРЕДДИ: Насчет меня вы ошибаетесь…
ЖЕРМЕН: На что вы намекаете?
ПОСЛАНЕЦ: Там, откуда я прибыл, все люди такие.
ЖЕРМЕН: А откуда вы прибыли?
ПОСЛАНЕЦ: Из Мемфиса.
ФРЕДДИ: Из Мемфиса, что в Египте?
ПОСЛАНЕЦ: Нет, сэр. Мемфис — это в Америке.
«О!».
Тишина. ФРЕДДИ начинает вытирать стойку бара. ЖЕРМЕН — протирать стаканы. ГАСТОН долго цедит напиток.
ГАСТОН: А каков Гайавата в жизни?
Входит подвыпивший ЭЙНШТЕЙН с Графиней.
ЭЙНШТЕЙН (ГРАФИНЕ): Очевидно, дверь захлопнулась перед кошкой (замечает, что он в баре). О, Боже. Мы закончили там, откуда начали.
ГРАФИНЯ (слегка подталкивая ЭЙНШТЕЙНА локтем): Если только Вселенная не искривлена, то это — Париж! (Хохочет).
ЭЙНШТЕЙН (ПОСЛАНЦУ): Не могу поверить, что мы встретились.
ПОСЛАНЕЦ: Да, мы встретились.
ЭЙНШТЕЙН: Вы и я, мы думаем почти похоже.
Начинает двигаться к ПОСЛАНЦУ.
ПОСЛАНЕЦ: Посмотрите на ботинки.
ЭЙНШТЕЙН (останавливается): Чем вы занимаетесь?
ПОСЛАНЕЦ: Ну, э, догадайтесь, э… (думает)…пою песни о любви. (Все затаили дыхание, особенно ЖЕРМЕН).
ФРЕДДИ (мечтательно): Если бы я мог петь о любви…
ЖЕРМЕН: Если бы я могла петь песни о любви, я бы пела и вспоминала бывших любовников, и чувства облекались бы в слова.
ПИКАССО: Я бы все бросил, если бы мог петь песни о любви. Нет больше холстов и кистей, но только — лунный свет, июньский свет и ты.
ГАСТОН: Летними вечерами я бы стоял на берегу Сены и только бы и делал, что пел, пел и пел.
ЭЙНШТЕЙН: Люди собирались бы в прокуренных кабаре, чтобы послушать, как парень из Кентукки поет песни о любви на слова Альберта Эйнштейна. Петь песни так же приятно, как носить летнее платье…идти, держа руку любимой в своей руке.
ПОСЛАНЕЦ: Знаете, что я имел в виду, когда сказал, что вы все, как одна семья?
Все в недоумении. Входит САГО, несет фотоаппарат на треноге.
САГО: Отлично. Вы все еще здесь.
ПИКАССО: Это фотоаппарат?
САГО: Последняя модель.
ПИКАССО: Они делают их слишком маленькими, Где ты его взял?