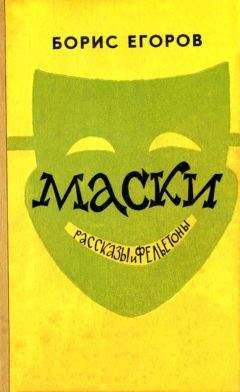При этом он допускал некоторые неточности: «Правда» имелась в виду не центральная, а местная и писал он не по просьбе редакции, а по своей доброй воле, и не сам, а поручил сотруднику, и это была не статья, а опровержение.
Пузырев завоевывал авторитет, а дела на базе шли своим чередом. Ход событий привел в общем к тому, что появилась необходимость в моем приезде. А это — дело неприятное.
Обнаружилась крупная недостача тары. Тару давно пустили налево, но она числилась за начальником склада. А ему на пенсию надо уходить. Что же он передаст своему преемнику? Воздух?
Уговорили одну семнадцатилетнюю девушку этот воздух все же принять. Тебе, мол, до пенсии далеко, а бочки так и будем переписывать с одного года на другой.
Это письмо я такое получил. Приехал, проверил — все, как говорится, соответствует.
А что же с Пузыревым, у которого такое под носом творилось?
Произошло то, что и надо было ожидать: Пузырев лопнул.
Я написал повесть.
Что толкнуло меня на этот рискованный шаг — не помню. Вышло как-то само по себе. Я наблюдал жизнь, а потом наблюдения стали настойчиво проситься на бумагу.
По неопытности думал, что получится не очень большой рассказ, — вышла повесть.
Я показал ее товарищу. Он одобрил мой труд и сделал только одно критическое замечание: более опытные прозаики растягивают такой материал на трилогию.
Но какая там трилогия! Я не рад, что написал повесть.
Рукопись я предложил областному издательству. Предварительно спросил редактора:
— Вам художественная литература нужна?
Он ответил:
— Да. Но смотря какой вопрос вы решаете в своей повести. И смотря где происходит действие.
— Вопрос? — Я несколько растерялся. — Ну, вопрос воспитания… Товарищество, любовь… Место действия — приморский городок.
Товарищество и любовь на редактора впечатления не произвели, но, услышав о приморском городке, он немедленно принял решение:
— Нет. Это не для нас. Не наша область. Отсюда до ближайшего моря знаете сколько? Если будете переделывать, перенесите действие в наш облцентр…
— Но это невозможно. У меня герой тонет в море…
— Пусть тонет в колхозном пруду. Кстати, о прудах: ведь это целая проблема! Вот вы и положите ее в основу… Обрыбление водоемов, мальковое хозяйство! А?
На обрыбление повести я не согласился, и мой собеседник адресовал меня в морское издательство «Приливы и отливы».
Первая фраза, которую я услышал в «Приливах», ободрила меня, от нее повеяло надеждой:
— Раньше у нас была установка печатать только специальную методическую литературу. Теперь есть мнение даже служебные инструкции пропускать, так сказать, через художественную призму. Помните, как это у Пушкина в одном из произведений сказано: «сквозь магический кристалл».
Последние фразы, которые мне сказали в «Приливах» через несколько дней, повергли меня в уныние:
— В вашей повести мало воды. Да-с. Действие в основном происходит на суше. А по методической части вы, конечно, слабы. Эксплуатации сухогрузных судов дальнего каботажа у вас не научишься.
Мне посоветовали обратиться в «Профновости». Редакция художественной литературы этого издательства, как мне сказали, переживала жестокий кризис: профхудлитературы не хватало.
Честно говоря, я не считал свою повесть за профхудлитературу. Но почему бы не издать ее в «Профновостях»? Все герои — люди работающие, не тунеядцы, значит, они члены профессионального союза.
Но я просчитался: есть ярко выраженные члены и не ярко выраженные. Те, которые ярко, с утра до вечера совещаются и проводят разные мероприятия. А у меня мероприятий описано было мало, хотя трудились герои очень славно.
Я попытался создать из них профгруппу, но из этой затеи ничего не вышло. Пришлось капитулировать. И тут меня осенила спасительная идея: кто-то где-то сказал мне, что в повести неплохо получились женские образы.
Через час я уже был в подъезде дома, на котором красовалась монументальная вывеска: «Редакция журнала „Альма-матер“».
Потом я имел разговор со строгой женщиной, не выпускавшей из руки толстого красного карандаша. Постукивая карандашом по столу, она не торопясь произнесла:
— Вы, конечно, не Жорж Санд и не Элиза Ожешко, но написали довольно мило…
— Значит, можно надеяться? — обрадованно спросил я.
— Нет. Это мило, но не для нашего журнала. Для нас это не подходит.
— По какому признаку?
— По признаку пола. У вас среди персонажей очень много мужчин.
Как и все предшествующие редакторы, женщина с красным карандашом дала мне свой совет:
— Самые удачные страницы повести — это где показана стройка. Думаю, что в «Созидатиздате» обеими руками ухватятся за ваше произведение. Они тоже балуются художественной литературой…
В «Созидатиздат» я не пошел. Мне стало ясно, что этого делать не надо, когда я просмотрел в книжном магазине его план-проспект. Среди художественных произведений там значились «роман о том, как построили печь для обжига кирпича» и «повесть о становлении башенного крана».
Я был расстроен. Я был удручен. И в этот тягостный момент меня посетил товарищ. Лицо его сияло, как серебряный рубль последней чеканки.
— Вот! — воскликнул он, вручая мне какую-то книжицу. — Дарю авторский экземпляр!
На обложке книги я прочитал его фамилию. Я инстинктивно потер глаза, и товарищ понял, что я ему не верю.
— Думаешь, если я никогда не брал в руки перо, то и писать не могу? — спросил он. — Предложили написать для издания ОРУДа стихи об уличном движении. Была не была — дай попробую. Это все мой один приятель устроил…
— Какой приятель?
— Неважно. Есть такой литератор. Фамилии его ты никогда не слыхал и, наверное, не услышишь. Он пишет рассказы о кооператорах для «Кооперации Федерации». Потом заключил договор у коммунальников на роман о парикмахерах. Название экзотическое — «Хна и басма»… Постой, постой, ты вроде грустен…
Я рассказал о причинах своей грусти.
— Чудак человек! — хлопнул меня по плечу автор поэмы об уличном движении. — Брось хандрить и включайся в это дело. Ты знаешь, сколько сейчас разных журналов? Порядочное ведомство не считает себя таковым, если у него нет журнала и нет, черт возьми, своих летописцев. Они все жаждут худлитературы. И с авторами не капризничают: для них первым делом — тема, а метафоры — потом. Там знают, что мы не Лермонтовы, не Михаилы Юрьевичи.
Я понял, что я чудак.
Была та осенняя пора, когда в меню столовых давно перестали уже писать: «Бефстроганов с молодой картошкой». Картошка постарела.
Двое мужчин заказали шашлыки и сидели на открытой веранде ресторана «Янтарь», время от времени прикладываясь к коньяку.
Остальные столики пустовали. Видимо, из-за того, что бывшие завсегдатаи «Янтаря» перебрались в более теплые места.
Одного из мужчин, полного, лысоватого, звали Петром Захаровичем, другого — тощего и густоволосого — просто Володей. Он был моложе своего собеседника, и тот обращался к нему по-отцовски.
— Так вот, Володя-Володя, — говорил Петр Захарович, — ты никогда не робей, ты свое всегда требуй. Мы с тобой только вот познакомились, а я уже вижу: застенчивый ты, стеснительный. А это ой как в жизни мешает! Вот, к примеру, официантка нас обслуживает… Как она назвалась? Люся? Да. Так вот ты уверен, что эта Люся налила коньяку столько, сколько заказали? А я нет!
Петр Захарович постучал вилкой по столу:
— Люся, подойдите!
Когда официантка подошла к столу, Петр Захарович заказал еще двести граммов.
— Только в другой графинчик, — попросил он.
Люся принесла другой графинчик.
— Теперь, пожалуйста, дайте мне контрольную мензурку.
Переливание показало, что недолива нет.
Оскорбленная Люся укоризненно смотрела на полного, лысоватого посетителя с мензуркой в руке.
— Не стройте, девушка, из себя обиженную, — спокойно сказал Петр Захарович. — Других обвешивают и обсчитывают, а меня — никогда. Я и кондуктора в трамвае проверяю, и кассира в «Гастрономе». А то как же?
Обсчитают за милую душу. Сегодня на копейку, завтра на копейку…
Люся молча отошла к своему столику и стала выписывать счет.
Толстяк повернулся к собеседнику:
— Вот, Володя-Володя, ты никогда не стесняйся. И но доверяй особенно. Вот сейчас нам подадут счет, и я все проверю, все пересчитаю. С ними надо ухо востро…
Люся принесла счет, Петр Захарович достал авторучку и начал производить сложение на бумажной салфетке.
— Ну, вы, Петр Захарович, пока считайте, — сказал Володя, — а я отлучусь на секунду по нужде…
Володя вышел. Через секунду он не пришел, через минуту — тоже. Толстяк ждал его еще минут пятнадцать.