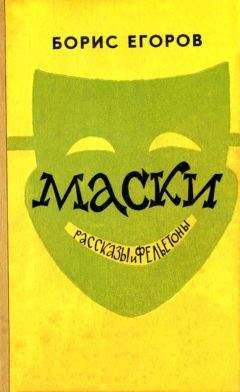— А вы расплачиваться будете? — спросила Люся. — Я бы вас не торопила, но моя смена кончается.
— Расплачиваться — это сейчас, — ответил Петр Захарович и полез в карман, — это…
Но не договорил. На лице его появилось выражение растерянности и испуга. Толстяк судорожно ощупывал свои карманы.
— Бумажник… Где же мой бумажник?..
— Посмотрите еще раз, — сказала Люся. — Он должен быть там, куда вы его положили.
— Нет, он уже не там… — беспомощно лепетал Петр Захарович. — Неужели этот Володя? Мы только что с ним познакомились… в поезде… и он так себя проявил…
Застенчивый Володя так и не появился.
От станции до села Глубокое километров двадцать пять.
Это не так уж много, если дорога хорошая.
Но здесь быстро не проедешь.
Старые, застоявшиеся лужи чередуются с выбоинами. Дальше мостики, объезды…
Эх, дорога! Сколько колес буксовало на ней! Сколько прочувствованных монологов произнесено водителями!
Такую дорогу может скрасить только одно — общительный попутчик. Тогда и тряску меньше замечаешь и время быстрей идет.
Козыреву посчастливилось: общительным спутником оказался сам шофер «козлика» — светловолосый парень со щедрой россыпью веснушек на лице.
Володя — так он представился Козыреву — не умолкал. Больше всего говорил про свой, глубоковский колхоз.
— В общем, земля ничего, народу хватает. Только с председателями не везет…
Володя помолчал, раздумывая, потом добавил:
— Мое мнение такое: если бы Найденова не взяли от нас, мы бы по району в первые вышли.
— Он кем, председателем был?
— Да. Мы знаете как его прозвали? Генерал! Так и говорили: «Генерал к себе просит», «Пошли к генералу — разберемся». Звания такого он не имел. Войну, кажется, подполковником кончил. Но на вид очень солидный был. Крупный такой, и виски седые. А главное — хозяйством здорово командовал. Принял колхоз слабеньким, стал поднимать. Пошло дело! В области Найденова заметили — к себе забрали. В отдел какой-то. А вместо него Одуванчиков председателем стал. Ну, это целая история.
— Расскажите, — попросил Козырев.
— Если желаете, — согласился Володя. — А впрочем, нам с вами все равно полчаса загорать на этом месте. Пока встречная колонна пройдет.
Володя помолчал, видимо припоминая историю Одуванчикова. По лицу его бродила улыбка, насмешливая и озорная. Наконец он произнес:
— И каким ветром занесло к нам этого Одуванчика, не знаю. Где он раньше работал — тоже. Был вроде когда-то преподавателем литературы. Может, это и так. Потому что говорил он вопросами-ответами. Как наша Марья Ивановна. Это школьная учительница. Только она часто, а он медленно, нараспев. Некоторые его даже Певуном называли.
Выступает, к примеру, на собрании:
«Знаете, товарищи, каким будет через пять лет наш колхоз? Богатым. И еще каким? Многоотраслевым. Сколько пшеницы будем убирать с гектара? По тридцать пять центнеров. А свеклы? По пятьсот…»
Рассказывая, Володя изменял голос, видимо подражая Одуванчикову. Причем делал это не без искусства.
— Прихожу к нему один раз. Сидит. Глаза в потолок. Выражение на лице сладкое.
«Почему бы, говорит, в наши колхозные пруды не напустить рыбы? Это ж так просто! Представляешь? В наших прудах плавает карп! И каждый карп какой? Зер-каль-ный! А что лучше карпа? Форель! Несколько лет — и наши пруды полны этой рыбиной. Форель, форель, кругом одна форель!»
Если не остановить Одуванчика, он пойдет дальше. Глазки совсем в щелочки превратятся. А говорит уже почти шепотом.
«И еще кроличьи фермы. Кролики — это что? Чистый доход. Ах, как они, мерзавцы, плодятся! В январе родился, а летом он уже кто? Дедушка. Вот, Володя. А если теплицы построить? Шампиньоны выращивать, бессоновский лук…»
Одуванчик так растрогает сам себя — чуть не плачет от умиления. Как будто ему лук этот самый к глазам поднесли.
Вот любил мечтать человек! Какие планы строил! Только дальше этого, по-честному сказать, не шагал.
Прочтет в книге, как шампиньоны разводить, — загорится. А надо не гореть, а работать. Вот этого он и не умел.
Так что книги ему не помогали. Хотя читал он регулярно. И на столе книги всегда так и лежали целой горкой.
А у нас девчонка есть одна в селе — Тоська Сметанкина. Она к Одуванчикову все советоваться ходила. Сама грамотная, сельхозтехникум окончила, в чем хочешь разбирается. Но такая немножко вредная. Хлебом не корми — дай посмеяться.
«Слушайте, председатель, говорит, такой вопрос есть: может ли кукуруза быть хорошим предшественником для яровой пшеницы? Вы, наверно, читали в книгах…»
Одуванчиков думает, а потом говорит:
«По-научному вообще может… Но лучше спросить у деда Игната…»
Много с ним смешного было, с Одуванчиком.
Говорят ему:
«Товарищ председатель, меры какие-то надо принимать, с животноводством провал может получиться».
А он отвечает:
«Не может быть. Вы в коллектив не верите…»
Вот он какой был — верующий!
Или еще. Приходят к Одуванчикову: так, мол, и так, телок случать надо.
«Валяйте. Случайте. Только без меня».
Стеснялся он этого дела…
В общем, лишний он у нас был, Одуванчик. Помните, в девятнадцатом веке были такие лишние люди? Правда, сам Одуванчик очень нужным себя считал. Боялся даже из колхоза отлучиться по разным делам: а ну как что произойдет?
Но уж если обязательно надо ехать — в область, допустим, вызывают, — так он к заместителю:
«Петя, милый, ты уж тут посмотри за нашим хозяйством».
В области ему, конечно, баню небольшую устроят за это самое хозяйство. Но он вернется — и по нему ничего не заметно. Соберет собрание, начнет вдохновлять.
«Коллектив у нас какой? Здоровый. С ним что можно свернуть? Горы».
Но коллектив решил по-другому: «свернул» Одуванчикова.
— Без работы, значит, он остался, Певун ваш? — спросил Козырев.
— Как бы не так. Учли его способности и взяли в райплан…
— А после него кто был?
— Самокрутов такой. Хозяйство знал. И практик был. Но держался ближе к своему огороду. И вообще, что касается для себя сделать, все умел. Собрал как-то правление, говорит:
«Тут просьба одна есть. От товарища Самокрутова. Домик проект построить. Я думаю, поможем товарищу…»
Себя он в третьем лице называл. И по фамилии. А иногда и во множественном числе — «мы»:
«Мы тут посоветовались… Мы пришли к мнению… Мы предлагаем…»
Кто «мы» — неизвестно. Но вроде коллегиальность получается.
Козырев усмехнулся и спросил:
— Володя, откуда вы все знаете?
— Шофер же я! Как говорится, все время при штабе.
— Нет. Я не про это. Здорово анализ у вас выходит.
— А что? Десятилетку окончил. Сочинения писал. «Базаров, как представитель…» и так далее… Так вот про Самокрутова. Домик ему сгрохали — заглядение. Сейчас детский сад там. А потом Самокрутов следующую цель поставил: «Победу» купить. Опять говорит на правлении:
«Мы тут подумали, и вот есть предложение: „Победу“ приобрести. Соседние колхозы имеют, а наш — нет. И председатель ваш товарищ Самокрутов, стыдно сказать, бог знает чем обходится. Это даже как-то неудобно от населения…»
Неудобно от населения… Такая поговорка у него была.
Если непорядок какой или правление ошибку допустило, Самокрутов возмущается:
«Товарищи, что же вы делаете? Ай-яй-яй! Несолидно. Неудобно от населения».
Он каким-то уполномоченным раньше работал. И с тех пор люди для него не люди, а население.
— Да, грамотный товарищ, — иронически заметил Козырев. — А скажите, Володя, его самого-то критиковали?
— Еще как! Он даже призывал к этому. Идет, бывало, собрание, кроют его в хвост и в гриву. А Самокрутов сидит и улыбается. Потом с заключительным словом выступит и заявит:
«Слабо у нас, товарищи, собрание прошло. Критика, конечно, была, но мало. Недостатков больше. Кое-чего мы еще не добились. А почему, я вас спрошу? В силу слабости. Значит, острее надо критиковать, резче. И меня не жалейте, и других!»
А что его «не жалеть»? С него как с гуся вода. Ему в детстве еще, наверно, прививку от критики сделали. Его хоть собака укуси — ничего не будет.
«Козлик» миновал березовый лес и ехал теперь полем. Около дороги Козырев увидел прибитый к двум столбам фанерный щит с расплывшейся от дождей надписью: «Сдадим но 100 цент. — будет выше процент!»
Что сдавать «по 100 цент.», сказано не было. Но местные жители, видимо, понимали.
— Вы на плакат засмотрелись? — спросил Володя и, не дожидаясь ответа, пояснил: — Наследство Печенкина, последнего нашего председателя. Никогда не приходилось его видеть? Высокий, поджарый, быстрый. На физкультурника похож.
Одуванчиков много курил, Самокрутов выпивал. Даже домашним коньячком «три свеклочки» не брезгал. А Печенкин — ни папиросы в зубы, ни рюмки в руку. И развлечений себе никаких не позволял. Все о наградах думал. И чтобы о нем писали везде.