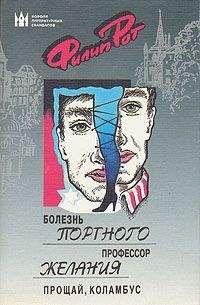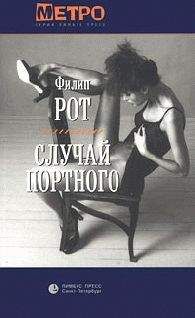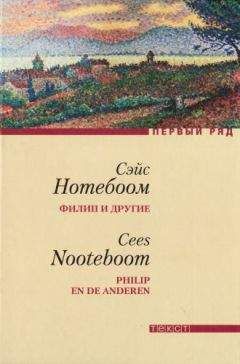Папочка, откуда в нас с тобой взялось это почтительно-покаянное отношение к женщинам? Его не должно быть! Ведь это мы должны править бал, папуля!
— Папа совершил ужасную-ужасную вещь! — плачет мама.
Или это мне пригрезилось? Разве мама говорит не вот эти слова:
— Папочка, наш маленький Алекс сделал что-то ужасное… — тут она поднимает на руки Ханну (Ханну! Нашла кого поднимать на руки!), которую я вплоть до этого момента не воспринимал серьезно в качестве объекта чьей-либо любви, — поднимает на руки и начинает осыпать поцелуями ее печальное некрасивое личико, приговаривая, что мамина маленькая дочурка — единственный человек во всем мире, на которого мама может положиться…
Но если мне восемь лет, то Ханне — двенадцать. А это значит, что никто не возьмет ее на руки, уверяю вас. Потому что Ханна страдает избыточным весом — «и как страдает!», говоря мамиными словами. Ей вообще-то даже и не следует есть шоколадный пудинг. Да! Именно поэтому я и съел ее порцию! Черт побери, Ханна, так сказал доктор, а не я. Я же не виноват, что ты толстая и вялая, а я — стройный и замечательный. Что же тут поделаешь, если я такой красивый, что они останавливают маму и заглядывают в коляску, чтобы как следует разглядеть мой восхитительный пуним, — ты сама слышала этот мамин рассказ, я тут ни при чем. Просто природа распорядилась таким образом, что я родился красивым, а ты — если не уродом, то, во всяком случае, не таким замечательным ребенком, которого все так и норовят попристальнее рассмотреть. И разве я в этом виноват? В том, что ты родилась именно такой на целых четыре года раньше меня? Наверняка на то воля Господня, Ханна! Наверняка, так предопределено большой книгой!
Однако дело-то в том, что она меня вовсе ни в чем не винит: она просто продолжает относиться по-доброму к своему маленькому братишке. Ни разу не ударила меня, ни разу не обозвала. Я проглотил ее пудинг, а она глотает мое дерьмо. И никогда не протестует. Просто целует меня перед сном, и ведет меня за руку по дороге в школу, и сливается со стеной, когда я изображаю в лицах перед моими сияющими родителями героев «Аллеи Аллена», или когда о моих блестящих успехах в учебе возвещают всем родственникам, рассеянным по северному Джерси. Дело в том, доктор, что все свободное от наказаний время меня носят на руках. Словно Папу по улицам Рима.
Знаете, я ведь и вправду вряд ли припомню более дюжины эпизодов из детства, в которых ту или иную роль играет сестра. Уже позднее, в юности, я обнаруживаю, что сестра — единственный нормальный человек в нашем сумасшедшем доме. Только с нею я могу нормально поговорить. Но это в юности — в детстве же сестра представлялась мне неким странным существом, которое появлялось раз или два в году — пару вечеров она обедает имеете с нами, спит в одной из наших кроватей, ходит с нами в гости, а затем, бедная толстушка, благополучно исчезает.
emp
Даже в китайском ресторанчике, где Бог смилостивился над послушными детьми Израиля и позволил им кушать свинину, — даже в этом благословенном месте Бог (в лице моей мамы, являющейся Его полномочным представителем во всем, что касается еды) и слышать не желает про омаров. Почему можно есть свинину в ресторанчике на Пелл-стрит, но нельзя — дома… Честно говоря, я этого до сих пор не совсем понимаю, но тогда я находил этому примерно такое объяснение: старичок, хозяин заведения, которого мы меж собой называем «шмендриком», очевидно, настолько ничтожная фигура, что его мнением о нас мы можем запросто пренебречь. Да, мне кажется, что единственный народ на свете, которого не боятся евреи, — это китайцы. Во-первых, они говорят на таком тарабарском английском языке, что на их фоне мой папа смотрится лордом Честерфилдом; во-вторых, если у какого-нибудь китайца нет мозгов, то вместо мозгов в его голове все-таки вареный рис; и, наконец, в-третьих, для китайцев мы не евреи, а белые — быть может, даже англосаксонцы. Представляете! Естественно, официантов мы не боимся. Ведь для них мы — носатая разновидность белых англосаксонских протестантов! Братцы, как мы наворачиваем в китайском ресторанчике! Мы вдруг перестаем бояться даже поросятины — хотя, уж будьте уверены, ее так отбивают, так кромсают на кусочки, а потом заливают таким количеством соевого соуса, — что она уже ничем не напоминает свиную котлету, или окорок, или, что омерзительнее всего, колбасу (ф-фу-у!)… Но почему бы нам тогда не попробовать и омаров, замаскированных, подобно поросенку, под какую-нибудь пристойную живность? Предоставьте моей матери объяснить это с точки зрения логики. Силлогизм, доктор. Силлогизм Софи Портной. Вы готовы? Итак: почему мы не можем съесть омара?
— Потому что я однажды ела омара, и чуть не померла!
Да-да, моя мама тоже как-то раз согрешила, и ее постигла заслуженная кара. Во времена своей бурной молодости (это было еще до нашего знакомства) она позволила вовлечь себя обманным путем (это ей льстит, но одновременно и смущает) в поедание омара. Совратил ее озорной красавец-страховой агент, коллега моего отца по «Бостон энд Нортистерн», пьяница и балагур по фамилии (можно ли придумать лучшую?) Дойл.
Во время шумного прощального банкета, устроенного компанией в Атлантик-Сити по случаю завершения конференции, этот Дойл убедил мою маму, что блюдо, которое подсунул ей официант, — цыпленок по-королевски, хоть и пахнет оно довольно пикантно. Будьте уверены, мама заподозрила неладное сразу же, она учуяла подвох, как только пьяный красавчик Дойл попытался накормить маму с ее же собственной вилки, она с самого начала заподозрила, что трагедия прячется в крылышках. Но, подогретая двумя порциями виски, она опрометчиво пренебрегла предчувствием нечестной игры, и — ах, горячая голова! ах, распутница! ах, авантюристка! — целиком отдалась безрассудному разврату, духом которого вдруг пропитался весь зал, где собрались страховые агенты с супругами. Не успели еще подать шербет, как Дойл — описывая его, мама говорит, что это «вылитый Эррол Флинн — и не только внешне» — открыл маме истинное название съеденного ею блюда.
Всю оставшуюся ночь мама то и дело бегала блевать в сортир.
— Меня всю выворачивало! Аж кишки вылезали! Тоже мне, шутник… Алекс, никогда никого не разыгрывай — последствия могут оказаться трагическими. Мне было так плохо, Алекс, — любила припоминать мама подробности той ночи через пять, десять, пятнадцать лет после катаклизма, — мне было так плохо, что твоему отцу, этому мистеру Смельчаку, пришлось будить гостиничного врача. Видишь, как я держу пальцы? Меня так рвало, что пальцы у меня буквально одеревенели — вот так примерно. Словно меня парализовало. Можешь спросить у отца. Джек, расскажи, расскажи ему, что ты подумал, когда увидел мои пальцы. Когда увидел, что с ними стало после омара.
— Какого омара?
— Которого твой друг Дойл насильно запихнул мне в глотку.
— Дойл? Какой еще Дойл?
— Дойл, Тот Красавчик Гой, Которого Им Пришлось Перевести В Самую Глухомань, Такой Он Был Бабник! Дойл! Который Был Похож На Эррола Флинна! Расскажи Алексу, что случилось с моими пальцами. О чем ты подумал, увидев мои пальцы…
— Послушай, я понятия не имею, о чем ты говоришь.
В этом-то все и дело: никто, кроме самой мамы, даже не подозревает о том, что жизнь ее — сплошная драма. Кроме того, вполне возможно, что эта история ближе к вымыслу, чем к реальности (особенно та ее часть, в которой упоминается коварный и опасный Дойл). И еще, конечно, надо принять во внимание то обстоятельство, что у папы и без того достаточно причин для ежедневного беспокойства, и порой ему просто необходимо отключаться от ведущихся рядом разговоров — дабы не перебрать через край, не хлебнуть лишнюю дозу тревоги. Может статься и так, что он вообще не слышал ни одного маминого слова.
Но мамин монолог продолжается. Подобно тому, как другие дети каждый год слушают историю про Скруджа, подобно тому, как другим детям постоянно читают на ночь любимую сказку — так и меня пичкают главами из истории маминой жизни, исполненной риска и беспокойного ожидания. Эти мамины истории, по сути, и составляют мое детское чтение — помимо учебников, в нашем доме нет других книг, кроме подаренных моим родителям томиков. Они получали эти подарки от людей, навещавших папу и маму во время их болезней. На одну треть наша библиотека состоит из «Семени Дракона» (мамина гистеректомия) (мораль: ничто не лишено иронии, везде таится смех), другие две трети составляют «Аргентинский дневник» Уильяма Л. Ширера и (мораль та же) «Мемуары Казановы» (папин аппендицит). Все остальные книги написаны Софи Портной и являют собой знаменитую серию «Вы меня знаете — в этой жизни я попробую все». Ибо основная идея, которую проповедует в своих произведениях Софи Портная, состоит в следующем: она, Софи Портная, — бесшабашная сорвиголова, которая постоянно рыскает по жизни в поисках неизведанного и получает в награду за свой пыл первооткрывателя лишь тычки и зуботычины. Она на самом деле воображает себя женщиной, которая находится на самых передовых рубежах познания. Мама кажется себе эдакой ослепительной помесью Марии Кюри с Анной Карениной и Амелией Эрхарт. Во всяком случае, именно такой образ матери складывается в голове маленького мальчугана, отправляющегося спать. Мама одела его в пижаму, уложила в постель, подоткнула одеяло и рассказывает сейчас о том, как она, беременная старшей сестрой мальчика, училась водить машину, и как в первый же день после получения прав — «в первый же час, Алекс» — в нее врезался сзади «какой-то маньяк». С того момента она никогда больше не садилась за руль. А может, она рассказывает историю про то, как она, будучи десятилетней девчонкой, хотела поймать золотую рыбку в пруду города Саратога-Спрингс, штат Нью-Йорк, куда она поехала проведать больную тетю, — но случайно свалилась прямо на дно грязного пруда. С тех пор она никогда больше не входила в воду, даже если на пляже дежурят спасатели и начался отлив.