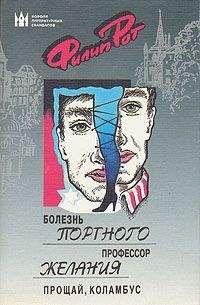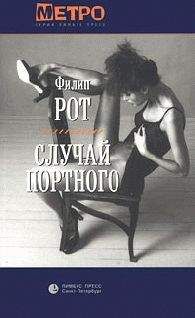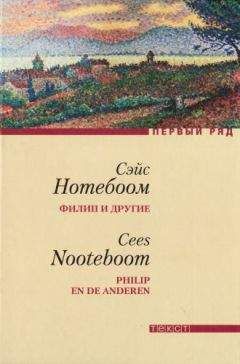— А сколько уроков мы ему брали, — причитает миссис Нимкин…
Послушайте, ну почему я так, а? Может, она совсем не это имеет в виду, конечно, она не это имеет в виду — ну чего еще ждать от этих простых людей, убитых горем? Конечно, она говорит эти ужасные вещи про уроки для ставшего ныне трупом сыночка только потому, что не знает, о чем еще сказать, совершенно раздавленная горем. Но кто же они все-таки, эти еврейские женщины, взрастившие нас? Их двойники в Калабрии каменными истуканами сидят в церквах, глотая омерзительное католическое дерьмо; в Калькутте они просят милостыню на улицах, или — если повезет — бредут за плугом по какому-нибудь пыльному полю…
И только в Америке, равви Голден, только в Америке эти пейзанки — наши матери — в шестьдесят лет красят волосы в платину и дефилируют по Коллинз-авеню во Флориде в норковых накидках. И при этом имеют собственное мнение касательно всего, что только есть под этим солнцем. Они же не виноваты в том, что обладают даром речи — понимаете, если бы, к примеру, коровы умели разговаривать, то выглядели бы они не глупее наших мам. Да-да, наверное, это самый правильный подход: воспринимайте их как коров, чудесным образом научившихся говорить и играть в макао. Почему бы и не стать милосердным, правда, доктор?
Моя любимая деталь в самоубийстве Рональда Нимкина: он свешивается со стояка для душа, а к короткой рубашке мертвого юного пианиста приколота записка… Тощий подросток-кататоник в больших, не по росту, спортивных рубашках с коротким рукавом, воротнички которых накрахмалены так, что кажутся пуленепробиваемыми… И сам Рональд, ребра и кости которого присоединены к спинному хребту так крепко, что кажется — дотронься до него, и скелет загудит, как натянутый провод… И его пальцы, конечно: длинные, белые диковинные вещицы — в каждом, но меньшей мере, семь суставов, заканчивающихся изгрызенными ногтями; мама говорила — и говорила, и говорила (ибо у нас не принято говорить о чем бы то ни было всего один раз — нет!) — что у Рональда были «пальцы прирожденного пианиста».
Пианист! О, это одно из тех слов, которые они обожают — почти так же страстно, как слово «доктор», доктор. И слово «резиденция». А самое лучшее слово, вернее, словосочетание — «собственный офис». Он открыл собственный офис в Ливингстоне. «Ты помнишь Симора Придуркинда, Алекс?» — спрашивает она. Помню ли я Аарона Хуйштейна или Говарда Шланга, или еще какого-нибудь дебила, с которым я учился двадцать пять лет назад в школе, и о котором не имею ни малейшего представления? — «Я встретила сегодня на улице его маму, и она сказала мне, что Симор теперь крупнейший нейрохирург всего Западного Полушария. И у него шесть каменных особняков в Ливингстоне, спроектированных Марком Жопельсоном, и он входит в совет одиннадцати синагог, и в прошлом году он с женой и двумя дочками, которые так красивы, что с ними уже заключил контракт «Метрополитен», — в прошлом году они отправились в восьмидесятимиллионный тур по семи тысячам стран, о которых ты даже не слышал. И они объездили всю Европу, и в каждой стране почитали за честь принять Симора, и более того — Симор такой знаменитый, что в каждом городе, который он посетил, все мэры приглашали его остановиться на несколько дней и провести уникальную операцию на головном мозге в госпитале, который тут же построили специально для Симора, и — только послушай — во время операции в операционной специально транслировали стихи из Исхода, чтобы каждый знал, какого Симор вероисповедания. Вот каким стал твой приятель Симор! И как он осчастливил своих родителей!»
Подтекст таков: когда же ты женишься? У всех жителей Ньюарка и его окрестностей на устах один вопрос: КОГДА ЖЕ, НАКОНЕЦ, АЛЕКСАНДР ПОРТНОЙ ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ ЭГОИСТОМ И ПОДАРИТ СВОИМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ РОДИТЕЛЯМ ВНУКОВ?
— Ну как? — спрашивает отец, и на глаза его наворачиваются слезы, — Ну… — спрашивает он при каждой встрече, — не появилась еще на горизонте серьезная партия, Большая Шишка? Извини, что я спрашиваю, я всего лишь отец, но поскольку я не собираюсь жить вечно, а ты — если не забыл еще — продолжатель рода, то, быть может, скажешь мне по секрету?
Стыдно, стыдно, Алекс П. Единственный из бывших однокашников, кто не подарил своим мамочке и папочке внуков. В то время как все женятся на хороших еврейках, и рожают детей, и покупают дома, и (слова моего отца) пускают корни, в то время как все сыновья продолжают род, — Алекс П. в это же время озабочен другим: он гоняется за пиздой. За гойской пиздой! Он гоняется за ней, вынюхивает ее, хватает ее, трахает ее, но что самое главное — он думает о ней! Днем и ночью, дома и на работе. Ему тридцать три года, а он все рыскает по улицам, выпучив глаза. Это чудо, что его до сих пор не сбило такси — поглядели бы вы, как он вертит головой, прочесывая главные улицы Манхэттена во время обеденного перерыва. Тридцать три года ему, а он по-прежнему строит глазки и фантазирует о девушке, которая сидит напротив него в вагоне подземки! И проклинает себя за то, что не заговорил с восхитительными грудями, проехавшими с ним в лифте целых двадцать пять этажей! А потом проклинает себя за то, что заговорил с ними! Потому что у него привычка подходить на улице к выглядящим в высшей степени респектабельно девушкам — так случалось пару раз — и неуклюже бормотать:
— Не хотите ли пойти ко мне в гости?
Он может сделать это даже по дороге к любовнице.
На что он надеется? Да, по воскресеньям его показывают по телевизору, и физиономия его не совсем незнакома просвещенной публике, — но что он ожидает услышать в ответ?
Конечно, она скажет «нет». Конечно, она завизжит: «Пошел вон отсюда!». Или ответит коротко: «Спасибо, но у меня есть свой дом, и там меня ждет муж». Что же он с собой делает, этот дурак? Этот идиот! Этот скрытный мальчишка! Этот сексуальный маньяк! Он просто не может — и не сможет никогда — контролировать свой член и свои охваченные лихорадкой мозги. Он не в состоянии справиться с непрерывно бушующей в нем страстью познать нечто новое, дикое, невообразимое и — если только вы в состоянии это представить — нечто непредставимое. В том, что касается отношения к пизде, этот тридцатитрехлетний мужчина продолжает пребывать в состоянии, в котором пребывал пятнадцатилетним мальчишкой — тогда, поднимаясь из-за парты, ему приходилось прикрывать низ живота учебником, чтобы не так был заметен восставший член. Глядя на любую девушку, он думает (придержите шляпы): у нее между ног — настоящая пизда. Удивительно! Потрясающе! Он по-прежнему не может свыкнуться с фантастической идеей: когда смотришь на девушку, то смотришь на существо, у которого — гарантия абсолютная — есть пизда. У них у всех есть пизда! Прямо под платьем! Пизда — для траханья! И вот что еще, доктор, Ваша честь, как там вас… — похоже, совершенно неважно, сколько их сумеет заполучить этот несчастный ублюдок, потому что, трахая сегодня одну пизду, он уже думает о новой — завтрашней пизде.
Думаете, я преувеличиваю? Может, я просто красуюсь? Или хвастаю? На самом ли деле воспринимаю эту ненасытность как несчастье? Или, наоборот, — как достоинство? А может — и так, и эдак? Вполне возможно. А может, все это — бегство от ответа, сплошные увертки? Понимаете, что бы там ни было, я в свои тридцать с небольшим по-прежнему не женат ни на одной из тех замечательных женщин, чье тело не представляет для меня никакого интереса; по крайней мере, мне не нужно каждый вечер ложиться в постель с той, кого мне пришлось бы трахать скорее из чувства долга, нежели из похоти. Я имею в виду представляете, какую кошмарную депрессию испытывают некоторые в постели… С другой стороны, даже мне приходится признать, что и в моем положении есть некий элемент депрессии. Конечно, невозможно обладать всем на свете — мне так кажется, во всяком случае, — но вопрос в другом: обладаю ли я хоть чем-нибудь? Как долго я буду продолжать эти эксперименты с женщинами? Как долго я буду засовывать эту «штучку» в каждую подвернувшуюся дырку — сначала в эту, потом, устав от нее, в следующую… и так далее. Когда это кончится? Только почему это должно кончиться? Ради того, чтобы угодить отцу с матерью? Чтобы соответствовать норме? С какой стати я должен все время отстаивать свое право быть тем, кого еще недавно столь уважительно величали — «холостяк»? В конце концов, я просто холостяк. В чем же мое преступление? Свобода секса? Это в наше-то время и в моем возрасте? Почему я должен покоряться буржуазии? Я же не прошу их покориться мне?! Может быть, богема слегка коснулась меня кистью, измазанной дегтем, — неужели это так ужасно? Разве я кого-нибудь обидел своей похотью? Я не избиваю дамочек, не заламываю им руки, не тащу их в свою постель силой. Я, если можно так выразиться, честный и сострадательный человек; позвольте сказать вам, что я… Но почему я должен оправдываться? Почему я должен оправдывать свои желания честностью и сострадательностью? Да, у меня есть желания — только они бесконечны. Бесконечны! И это… это, может быть, не такое уж блаженство, если взглянуть на все с точки зрения психоанализа… Но ведь единственное, на что способно подсознание — это желание. Так Фрейд говорит. Желание! И желание! И еще раз ЖЕЛАНИЕ! О, Фрейд, как мне это знакомо! У этой прелестная попка, но она слишком много говорит. С другой стороны, вторая вообще не говорит — во всяком случае, что-нибудь стоящее, — но зато как сосет! Как она управляется с членом! Или, например, еще девушка — просто прелесть, а не девушка: таких розовых, дразнящих сосков я никогда еще не целовал. Но она отказывается сосать мой член. Ну не странно ли? Ведь наряду с этим — поди разберись в людях! — она балдеет, если во время полового акта я засовываю один из указательных пальцев в ее анус! Неисповедимое занятие. Обаяние всех этих щелей и отверстий — бесконечно! Понимаете, я просто не могу остановиться! Или хотя бы остановиться на одной. У меня были связи, которые длились год, полтора года — долгие месяцы нежной и сладострастной любви, которые заканчивались — неизбежно, как смерть, — иссяканием страсти. Вместо выбывшей из игры Похоти в игру вступает Время. И я не в состоянии решиться на последний шаг и жениться. Но почему я должен жениться? Но почему я должен жениться? Почему? В каком законе записано, что Алекс Портной должен быть чьим-то мужем и отцом? Доктор, они могут влезать на подоконник и грозить мне тем, что сейчас выбросятся из окна и расшибутся в лепешку; они могут поглощать горы секонала — я согласен неделями жить с этими одержимыми замужеством девицами и терпеть их террор, и выслушивать их обещания броситься под поезд метро, — но я не могу связать себя обязательством спать только с одной женщиной всю оставшуюся жизнь. Ну, представьте себе: допустим, я женился бы на А — с восхитительным бюстом и всем прочим… Что произойдет, когда на горизонте возникнет Б, бюст которой еще восхитительнее, или, во всяком случае, новее? Или В, которая умеет двигать попкой так, как никакая другая? Или Г, или Д, или Е? Доктор, я стараюсь быть честным перед вами — потому что, когда дело касается секса, человеческое воображение способно дойти до буквы Я — и пойти дальше! Груди и влагалища, и ноги, и губы, и рты, и языки, и задницы! Как я смогу отказаться от того, чего прежде не изведал? Ведь любая девушка, какой бы соблазнительной и восхитительной она ни была в начале, неизбежно станет для меня обыденной как ломоть хлеба. Отказаться от всего этого во имя Любви? Какой еще любви? Разве любовь связывает все эти пары вместе? Да им лень привязываться друг к другу! Разве такая любовь не смахивает на проявление слабости? Не похоже ли это больше на конформизм, апатию и грех? Разве любовь, о которой мечтают брачные агентства, авторы песен и психотерапевты, реальна? Разве людей держат вместе не страх, изнуренность и инерция? И элементарная забота о собственной утробе? Так что давайте не будем пудрить друг другу мозги «любовью» и ее продолжительностью. Вот почему я спрашиваю: как я могу жениться на той, которую «люблю», зная, что пройдет пять, шесть, семь лет — и я отправлюсь на улицу охотиться за новой свежей пиздой, оставив преданную свою жену, создавшую мне семейный очаг и прочее, стойко переносить одиночество и измену? Как я потом буду смотреть в ее полные слез глаза? Как я посмею взглянуть в лицо собственным детям? А потом развод, не так ли? Алименты. Право навещать ребенка. Замечательная перспектива, просто замечательная.