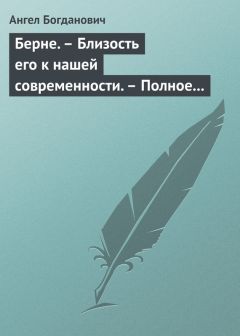Этимъ кончились сношенія коменданта крѣпости съ барабанщикомъ, но юный сирота продолжалъ лежать у меня на сердцѣ.
Я слѣдилъ за нимъ издали, надѣясь, что онъ повеселѣетъ и перестанетъ грустить. Но нѣтъ, дни проходили за днями и не приносили съ собой никакой перемѣны. Онъ ни съ кѣмъ не сходился, всегда былъ разсѣянъ, всегда задумчивъ; выраженіе глазъ его всегда было грустное. Однажды утромъ, Рэйбурнъ просилъ позволенія поговорить со мной наединѣ.
— Надѣюсь, что не обезпокоилъ васъ, сэръ, но дѣло въ томъ, что музыканты въ такомъ тяжеломъ состояніи, что кому-нибудь необходимо за нихъ вступиться.
— Что же ихъ смущаетъ?
— Юноша Уиклоу, сэръ. Музыканты до такой степени возбуждены имъ, что вы не можете себѣ представить.
— Хорошо. Продолжайте, продолжайте. Что же онъ дѣлаетъ?
— Молится, сэръ.
— Молится!
— Да, сэръ. Музыкантамъ нѣтъ покою отъ его молитвъ. Утромъ онъ прежде всего принимается за нихъ, въ полдень молится, ночью, да ночью, онъ впадаетъ въ нихъ, какъ одержимый. Спать? Богъ съ вами, сэръ, они не могутъ спать. Онъ встаетъ съ кровати и какъ заведетъ свою молитвенную мельницу, то ужь съ нимъ ничего не подѣлаешь; онъ начинаетъ съ режиссера и молится за него, затѣмъ молится за корнетиста, молится за тамбуръ-мажора и т. д. перебираютъ всю толпу, давая имъ всѣмъ представленіе. Онъ принимаетъ такое участіе въ этомъ дѣлѣ, которое заставляетъ васъ думать, что онъ лишь кратковременный жилецъ въ этомъ мірѣ, и что для полнаго его блаженства на небѣ ему необходимъ цѣлый духовой оркестръ, который онъ и вербуетъ себѣ такъ усердно. Онъ вполнѣ могъ разсчитывать на то, что они будутъ играть національныя пѣсни въ такомъ именно духѣ, какой тамъ требуется. Повѣрите ли, сэръ, бросаніе въ него сапогами не производитъ на него никакого впечатлѣнія! Тамъ очень темно, да къ тому же онъ не молится въ открытую, а становится на колѣни за большимъ барабаномъ, такъ что ему все равно. Когда они закидываютъ его сапогами, онъ не шевелится, продолжая тихо ворковать; какъ будто они ему апплодируютъ. Они кричатъ на него: „О, перестань! Дай намъ отдохнуть! Застрѣлить его! О, поди прогуляйся!“ и т. п. Но что толку? Его ничѣмъ не проймешь. Онъ и вниманія не обращаетъ.
Послѣ небольшой паузы:
— Добрый, маленькій дурачекъ: утромъ собираетъ всю эту груду сапогъ, сортируетъ ихъ по принадлежности и ставитъ каждую пару у кровати ихъ обладателя. Ему такъ много пришлось возиться съ ними, что теперь онъ знаетъ всякую пару наизусть и можетъ разсортировать ихъ съ закрытыми глазами.
Послѣ новаго молчанія, которое я умышленно не прерывалъ:
— Но самое скверное то, что, окончивъ свои молитвы (если только можно когда-либо считать ихъ оконченными), онъ встаетъ и начинаетъ пѣть. Ну, вы вѣдь знаете, что у него за медовый голосокъ, когда онъ разговариваетъ, вы знаете, что этимъ голоскомъ онъ можетъ заставить самую закоренѣлую собаку подползти къ нему отъ самой двери и лизать ему руки; но даю вамъ мое слово, сэръ, что онъ не можетъ сравниться съ его пѣніемъ. Звуки флейты грубы въ сравненіи съ пѣніемъ этого мальчика. О, онъ воркуетъ такъ нѣжно, такъ тихо, сладостно въ темнотѣ, что вамъ кажется, что вы на небѣ.
— Что же тутъ такого „сквернаго?“
— А! Въ томъ-то и дѣло, сэръ. Когда вы слышите, какъ онъ поетъ:
Я бѣдный, несчастный, слѣпой,
„Когда вы слышите, какъ онъ поетъ это, вы все забываете и глаза ваши наполняются слезами. Нужды нѣтъ до того, что онъ поетъ, пѣніе его преслѣдуетъ васъ до самаго вашего дома, глубоко проникаетъ въ ваше жилище, преслѣдуетъ васъ все время. Когда вы слышите, какъ онъ поетъ:
Полное страха, грѣха и печали дитя,
Не жди до завтра, сегодня умри,
Не грусти о той любви,
Которая свыше… и т. д.
— Человѣкъ чувствуетъ себя нечестивѣйшимъ, неблагодарнѣйшимъ животнымъ въ мірѣ. А когда онъ поетъ имъ о родномъ кровѣ, о матери, о дѣтствѣ, о старыхъ воспоминаніяхъ, о прошедшихъ вещахъ, о старыхъ друзьяхъ, умершихъ и уѣхавшихъ, вы начинаете чувствовать, что во всю свою жизнь вы только и дѣлали, что любили и теряли, и какъ прекрасно, какъ божественно слушать это, сэръ. Но, Боже, Боже, что это за мученіе! Толпа — ну, однимъ словомъ, всѣ они плачутъ, всякій бестія изъ нихъ воетъ и даже не старается скрыть этого. И вся ватага, которая только-что забрасывала сапогами этого мальчика, теперь вся сразу бросается на него въ темнотѣ и начинаетъ ласкать его. Да, сэръ, они это дѣлаютъ, они жмутся къ нему, называютъ его ласкательными именами, просятъ у него прощенья. И если бы въ это время цѣлый полкъ вздумалъ дотронуться до волоса на головѣ этого поросенка, то они бросились бы на этотъ полкъ, бросились бы даже на цѣлый корпусъ.
Новая пауза.
— Это все? — спросилъ я.
— Да, сэръ.
— Хорошо, но въ чемъ же жалоба? Чего они хотятъ?
— Чего хотятъ? Богъ съ вами, сэръ, они просятъ васъ запретить ему пѣть.
— Что за мысль! Вы же говорите, что его пѣніе божественно.
— Вотъ въ томъ-то и дѣло. Оно слишкомъ божественно. Смертный не можетъ вынести его. Оно волнуетъ человѣка, переворачиваетъ все его существо, треплетъ всѣ чувства его въ тряпки, заставляетъ сознавать себя нехорошимъ и озлобленнымъ, сквернымъ и нечестивымъ, недостойнымъ никакого другого мѣста, кромѣ ада. Онъ приводить все существо въ такое непрерывное состояніе раскаянія, что ничего не хочется, ничто не нравится и нѣтъ никакихъ утѣшеній въ жизни. А потомъ, этотъ плачь! По утрамъ имъ стыдно смотрѣть другъ другу въ глаза.
— Да, это странный случай и оригинальная жалоба. Значитъ, они дѣйствительно хотятъ прекратить пѣніе?
— Да, сэръ, это ихъ мысль. Они не хотятъ просить слишкомъ многаго. Они бы очень желали, конечно, прикончить и молитвы или, по крайней мѣрѣ, опредѣлить ему мѣсто для нихъ гдѣ-нибудь подальше, но главное дѣло это пѣніе. Они думаютъ, что если не будетъ пѣнія, то молитвы они выдержатъ, какъ ни тяжко имъ быть постоянно такъ измочаленными.
Я сказалъ сержанту, что приму это дѣло къ свѣдѣнію. Вечеромъ я пошелъ въ музыкантскія казармы и сталъ слушать. Сержантъ ничего не преувеличилъ. Я услышалъ молящійся въ темнотѣ голосъ, услышалъ проклятія выведенныхъ изъ себя людей, услышалъ свистящій въ воздухѣ сапожный дождь, падавшій вокругъ большого барабана. Все это было очень трогательно, но вмѣстѣ съ тѣмъ забавно. Скоро, послѣ внушительнаго молчанія, началось пѣніе. Боже, что за прелесть, что за очарованіе! Ничто въ мірѣ не можетъ быть такъ нѣжно, такъ сладостно, такъ градіозно, такъ свято, такъ трогательно. Я очень не долго оставался тамъ, начавъ испытывать волненіе, не совсѣмъ подходящее для коменданта крѣпости.
На слѣдующій день я отдалъ приказъ прекратить и молитвы, и пѣніе. Затѣмъ прошло три или четыре дня, которые были такъ полны разныхъ наградныхъ тревогъ и непріятностей, что мнѣ некогда было думать о своемъ барабанщикѣ. Но вотъ какъ-то утромъ приходитъ сержантъ Рэйбурнъ и говоритъ:
— Этотъ новый мальчикъ ведетъ себя очень странно, сэръ.
— Какъ?
— Онъ все время пишетъ, сэръ.
— Пишетъ? Что же онъ пишетъ, письма?
— Я не знаю, сэръ; но какъ только онъ освобождается отъ занятій, онъ все время ходитъ вокругъ форта и разнюхиваетъ, совершенно одинъ. Право, нѣтъ, кажется, уголка во всемъ фортѣ, который бы онъ не осмотрѣлъ. И все ходитъ съ бумагой и карандашемъ и все что-то такое записываетъ.
Мною овладѣло самое непріятное чувство. Мнѣ бы хотѣлось посмѣяться надъ этимъ, но время было не такое, чтобы смѣяться надъ чѣмъ бы то ни было, имѣющимъ хоть тѣнь подозрѣнія. Происшествія, случившіяся вокругъ насъ на сѣверѣ, заставляли насъ вѣчно быть на-сторожѣ, вѣчно подозрѣвать. Я припомнилъ тотъ фактъ, что этотъ мальчикъ съ юга, съ крайняго юга, изъ Луизіаны. Мысль эта была не изъ успокоительныхъ, благодаря существующимъ обстоятельствамъ. Тѣмъ не менѣе я отдавалъ приказанія Рэйбурну скрѣпя сердце. Я чувствовалъ себя отцомъ, который собирается предать своего собственнаго ребенка на позоръ и оскорбленія. Я приказалъ Рэйбурну сохранять спокойствіе, выждать время и добыть мнѣ одно изъ этихъ писаній такъ, чтобы онъ не зналъ объ этомъ. Я также поручилъ ему не предпринимать ничего такого, что бы показало мальчику, что за нимъ слѣдятъ, приказалъ ему также не стѣснять свободы мальчика и слѣдить за нимъ издали во время его прогулокъ по городу.
Въ слѣдующіе два дня Рэйбурнъ донесъ мнѣ различныя извѣстія. Успѣха никакого. Мальчикъ продолжалъ писать, но съ беззаботнымъ видомъ пряталъ бумагу въ карманъ всякій разъ, когда показывался Рэйбурнъ. Раза два онъ отправлялся въ городъ, въ старую заброшенную конюшню, оставался тамъ минуту или двѣ и затѣмъ выходилъ. Такія вещи нельзя было пропускать: онѣ имѣли очень нехорошій видъ. Долженъ признаться, что мнѣ становилось не по себѣ. Я пошелъ на свою частную квартиру и потребовалъ къ себѣ своего помощника, офицера интеллигентнаго и разумнаго, сына генерала Джэмса Уатсона Уэбба. Онъ былъ удивленъ и встревоженъ. Мы долго обсуждали дѣло и пришли къ заключенію, что слѣдуетъ произвести тайный обыскъ. Я рѣшилъ взять это на себя. Итакъ, я велѣлъ разбудить себя въ два часа утра и вскорѣ уже былъ въ музыкантскихъ казармахъ, пробираясь на животѣ между спящими. Наконецъ, я доползъ до скамейки моего спящаго найденыша, не разбудивъ никого, захватилъ его сумку и платье и, крадучись, проползъ назадъ. Вернувшись домой, я нашелъ тамъ Уэбба, въ нетерпѣніи ожидавшаго результатовъ. Мы немедленно приступили къ осмотру. Платье привело насъ въ отчаяніе. Въ карманахъ мы нашли бѣлую бумагу и карандашъ, ничего болѣе, кромѣ перочиннаго ножа и разныхъ пустяковъ и ненужныхъ мелочей, которые обыкновенно собираютъ мальчики, придавая имъ особенную цѣну. Мы съ великимъ упованіемъ обратились къ сумкѣ и ничего въ ней не нашли, кромѣ порицанія намъ, въ видѣ маленькой Библіи, съ слѣдующею надписью на поляхъ: „Незнакомецъ, будь добръ къ моему мальчику ради его матери“.