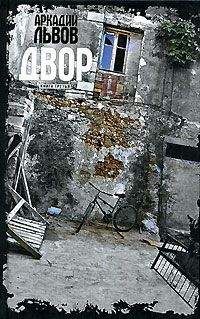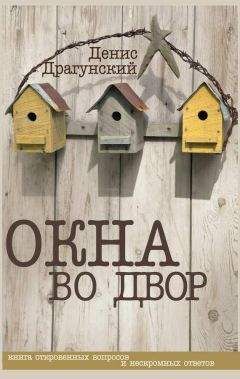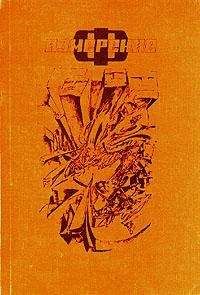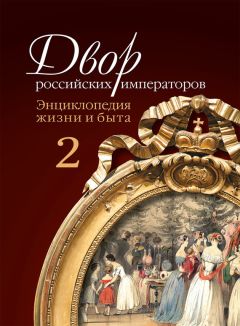— Хочу пополнить… Хочу пополнить… — бормотал уставший от усилий Мотя. — Хочу пополнить… ряды погибших, — с облегчением выдавил наконец он.
— Ты таки пополнишь! — ахнула Мирочка и закрыла ладошками личико. Археоптерикс на картине издевательски захохотал. У Моти закружилась голова, и он повалился прямо на руки подоспевшей Мирочке.
После окончания школы Мотю устроили в магазин «Стимул», где за справку, что вы сдали государству тонну травы или свинью, вы могли купить синтетическое японское платье или вельветовые джинсы. В городе всегда знали, кто сдает государству траву, овощи или, например, корову. Потому что эти люди ходили в одинаковых импортных платьях, пальто с ламой или в шубах «Анжелика». Это были жены и дочери секретарей райкомов, исполкомов, работники торговли и другие труженики полей.
И вы знаете, Мотя таки стал миллионером! Нет. Не в «Стимуле», хотя там он неплохо жил и многому научился. Он получил наследство от родственников из Южной Америки. Он быстро уехал. Вместе с Мирочкой. Весь двор за ними плакал.
Вот такие вот люди…
Врать не буду. В Ленина я не стреляла. Это точно. Потому что была такая же близорукая, как эсерка Каплан. В Ленина стрелял однажды на досуге летом мой друг Гарик Кушнир. Он тоже был близорук, но родители заставляли его носить большие очки с толстыми линзами. В этих очках он видел хорошо и мог, если целиться, попасть.
Началось все с того памятного летнего утра, когда Гарик дразнился и довел меня до того, что я быстрым воровским движением содрала с его шеи веревку с ключом от дома и что-то гадкое прошипела ему сначала в одно ухо, потом в другое. Вообще-то я была спокойной, сдержанной девочкой. Не дралась, не ссорилась. И это как меня надо было довести, чтобы я совершила такой отвратительный поступок!
— Ваша Манька наплювала мине в у-ухи и украла мой ключ! — рыдал Гарик моей маме. И пока он рассказывал о моем преступлении в подробностях, я металась в поисках убежища, где можно не только спрятаться от Гарика, но и пересидеть, пока какую-нибудь пакость не совершит моя сестра Таня, и эта пакость не перекроет по качеству мою. Тогда вечером после ужина мы с Танькой будем получать уже вдвоем, уже в коллективе. А квартира на тот момент у нас была маленькая, и свободный угол был один! И кого туда ставить, Таньку или меня? А никого. Потому что я резво неслась к роялю и принималась разучивать «раз-ы, два-ы…». А Танька схватывала любую книгу потолще, утыкалась в нее и демонстративно шевелила губами — читала. Кстати, именно благодаря вот таким вот выволочкам и угрозе стояния в углу я успела за лето разучить всю летнюю программу, а семилетняя Танька прочесть «Алису в Стране чудес», «Волшебника Изумрудного города», «Собор Парижской Богоматери» и «Книгу о вкусной и здоровой пище» с цитатами из Сталина.
Да. Так вот. Удирала я от Гарика.
И убежище было найдено — я спряталась в вестибюле райкома партии. Заскочила я туда и замерла у выцветшего канонического профиля на стене, под которым красными буквами было уточнение, если кто не знает: «Ленин». Гарик меня видел через большие стеклянные двери, но войти, а тем более дать по башке прямо в храме коммунизма он не смел. А я, с виду такая приличная девочка, хитро пританцовывала, помахивала ключом на веревке, подмигивала и показывала Гарику язык, когда в вестибюле никого не было. А когда какой-нибудь коммунист проходил мимо, я чинно стояла и на вопрос, почему я здесь стою, вежливо отвечала, что жду маму, что мне велено ждать тут. Коммунисты поощрительно гладили меня по головке и уходили строить мое счастливое будущее. Утро катилось в полдень, я продолжала маяться в вестибюле райкома партии под старым портретом вождя, Гарик топтался снаружи и терпеливо вожделел возмездия, потряхивая оплеванными ушами. Иногда он прилипал носом к стеклу и, мрачно щурясь, глядел на меня сплющенным о стеклянную дверь, круглым лицом, шепча угрозы и проклятия.
Я затосковала и опечалилась. Хотелось домой. Я должна была уже давно сидеть за роялем, но Гарик стойко дежурил у входа. Как отдать ему ключ и не получить при этом по шее, я не знала. Хорошо все обдумав, я пошла на переговоры. Через стекло я проорала ему, что, мол, я верну ключ, но ты — первое: меня выпускаешь, второе: даешь мне свой самопальный пистолет пострелять (тут Гарик яростно замотал головой), и тогда, продолжала я, (ох, и шантажисткой я была в детстве!) и тогда я никому во дворе не скажу, что видела твою фотографию в трехлетнем возрасте, где ты с локонами и в платье! Быстро выпалив все это, я снова затанцевала, строя рожи. Гарик печально кивнул.
Получив вожделенный пистолет, я решила пару раз стрельнуть, а потом уже побежать домой, просочиться в свою комнату, плюхнуться на стульчик у рояля и сделать вид, как будто я давно и безнадежно копаюсь в «Сонатине» Клементи.
В райкоме был обеденный перерыв. И я — ай-ай-ай! — прицелилась в портрет вождя. Гарик стоял рядом со мной в вестибюле и ныл, чтоб я отдала пистолет, что я не умею целиться, что не так и что дай я покажу. Мой первый выстрел был неудачным, кусок алюминиевой проволоки дзынькнул о стену и шлепнулся на пол. Тогда Гарик, отобрав у меня самопал, прицелился портрету прямо в глаз и попал, пробив дырку в ветхом холсте. Вот тут, как в кино, в райком вошел Чижевский, самый что ни на есть первый секретарь в галстуке.
Что тут началось! Чьи это дети?! Кто их родители?! Тут же по этажам забегали люди, нас завели в какой-то кабинет. Блондинка с золотыми зубами положила на стол лист белой бумаги, нацелилась в него ручкой и стала нас допрашивать: «Имя? Фамилия? Школа?» — но мы с Гариком молчали. Гарик — потому что до смерти испугался. Я — потому что предполагала последствия.
А поскольку, как я сейчас понимаю, не в их коммунистических интересах было распространяться о девятилетних диверсантах в райкоме партии, нас отпустили с миром, прочитав серьезную лекцию об октябрятском долге и чести, и что Ленин всегда живой, всегда с тобой. В горе, в надежде и в радости. Наверное, какие-то директивы они разослали по школам города об укреплении и повышении контроля и усилении воспитательной работы. Но мне лично попало только за опоздание к роялю, потому что моя сестра Танька уже успела сыграть в парикмахерскую и выстричь у своей подруги Наташки Томашенко клок волос прямо над глазами. Под корень.
Дедушка мой был необоснованно убежден в неотразимой, невероятной красоте свой внучки. Поэтому не пускал меня по вечерам гулять с подружками. Куда?! Что вы?!
— Сиди дома, — приказывал он. — Из-за тебя же стрельба начнется. Сиди дома.
Дедушка мой, Зиновий Соломонович, которого в 1917 году родители пытались вывезти за границу в корзинке, но на последний пароход не попали, в идеале хотел бы, чтобы я в свои тринадцать лет носила гимназическую форму и косы, не ленилась, тайком читала Чарскую, приседала в глубоком реверансе перед венценосными особами и была «всегда скромна, всегда послушна, всегда как утро…». У бабушки, коренной одесситки, запросы на мой счет были попроще: снять эти ужасные «бруки» (предмет моей гордости — «Левис»), надеть платьице, фартук и идти на балкон рубить рыбу.
— И причешись, — делали замечания оба. — Причешись! Я тебе сейчас покажу «Битлы», такие «Битлы» тебе покажу! Будут тебе «Битлы»!..
Ну и что они могли мне показать? Деда, как махатма Ганди, носил свою вставную челюсть в складках одежды. Поэтому не всегда можно было понять его отношение к «Битлам». А бабушка, уставшая со мной бороться, однажды, опираясь на библейскую мудрость, объявила, что я сама наконец должна научиться определять, где «семачки», а где «лушпайки».
— Иди на веранду рубить рыбу, — добавляла она.
Эта рыба!!! Ну почему! Ну почему ее надо было рубить только топориком, я вас спрашиваю? Ну почему?!
Однажды случилось. Пользуясь отсутствием бабушки, я быстренько наладила на краю стола мясорубку и только начала свое подлое дело, как на веранду вошел дедушка. И знаете, как он меня назвал?
Я, конечно, обиделась. Очень обиделась. И вечером настучала бабушке, что деда назвал меня… Он назвал меня… Развратницей!
— Ты этого не видела! — кричал деда бабушке. — Ты не видела. Как она… рыбу…. На мясорубке… Зато все соседи видели. Причешись! — попутно рявкнул он мне. — И теперь все знают, что моя внучка — лентяйка и развратница!
— Опя-а-ать!!! — завопила я.
Какая бабушка вытерпит слезы своей внучки, даже если они неправедные. Бабушка быстро перебежала в мой окоп и набросилась на дедушку. Она вспомнила, что он не починил замок в ванной. И топорик для рыбы затупился. И не рубит. И есть ли в доме хозяин, чтобы этот топорик наточить, и почему до сих пор валяются эти проклятые рога!
Все. При упоминании рогов они забыли обо мне. Можно было натягивать джинсы и уходить гулять. Но я знала, что после того, как они там наругаются всласть, надо будет накапать им в их рюмочки. Деду — от сердца. Бабушке — от печени. Из одного и того же пузырька.