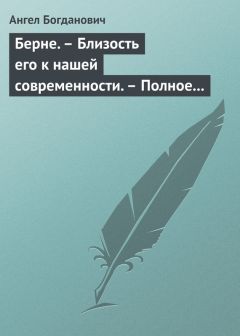Джимъ стоялъ на колѣняхъ, скрестивъ руки и смотря на этотъ предметъ какъ бы съ мольбою; онъ шевелилъ губами, но не могъ произнести ничего. Я только взглянулъ и былъ готовъ лишиться чувствъ снова, но Томъ сказалъ:
— Да онъ не живой, дурачье! Это сфинксъ.
Никогда еще Томъ не казался мнѣ такимъ маленькимъ: настоящая муха! Но это было потому, что голова великана была такъ велика и ужасна. Ужасна! да, но она не устрашала меня уже болѣе, потому, что у нея были благородныя черты, въ которыхъ выражалась грусть и какая-то мысль, но занятая не нами, а чѣмъ-то другимъ, болѣе широкимъ. Изваянъ этотъ сфинксъ былъ изъ камня, — красноватаго камня, — носъ и уши были у него сколоты и это придавало ему обиженный видъ, что невольно возбуждало въ насъ жалость къ нему.
Мы отодвинулись немного, покружили около него и надъ нимъ, и онъ показался намъ весьма величавымъ. Голова у него была мужская, — можетъ быть, женская, — а туловище вродѣ тигра и длиною въ сто двадцать пять футовъ; а между передними его лапами помѣщался прехорошенькій, маленькій храмъ. Цѣлыя сотни, можетъ быть, и тысячи лѣтъ, изъ массы песка виднѣлась лишь одна голова сфинкса, но недавно песокъ былъ раскопанъ и открылся этотъ маленькій храмъ. Сколько потребовалось песку, чтобы схоронить такую громаду? Я думаю не менѣе, чѣмъ для того, чтобы зарыть цѣлый пароходъ.
Мы спустили Джима на самую макушку сфинкса, вручивъ ему американскій флагъ для охраны, потому что были въ чужомъ государствѣ; потомъ стали переходить съ одного разстоянія на другое, ради того, что Томъ называлъ эффектами, перспективами и соразмѣреніями; а Джимъ старался въ это время принимать различныя положенія и позы, какія только могъ придумать. Самою удачною фигурою было стояніе на головѣ и прыганье по лягушачьи. Чѣмъ болѣе мы отдалялись, тѣмъ меньше казался намъ Джимъ, но съ тѣмъ вмѣстѣ выросталъ сфинксъ, такъ что, наконецъ, намъ представилась только какъ бы булавка на куполѣ, такъ сказать. Томъ говорилъ, что, такимъ путемъ, перспектива уясняетъ дѣйствительную соразмѣрность предметовъ; негры Юлія Цезаря не могли уразумѣть его величины, потому что были слишкомъ близко къ нему.
Мы удалялись все болѣе и болѣе, такъ что Джимъ исчезъ совершенно изъ нашихъ глазъ; наконецъ, и тогда фигура сфинкса выступила во всей своей величавости, господствуя безмолвно, торжественно и одиноко надъ Нильской долиной, въ то время, какъ всѣ маленькія, грязныя хижинки, со всѣмъ окружающимъ ихъ, пропали изъ вида, и повсюду разстилался, желтымъ бархатнымъ ковромъ, одинъ лишь песокъ.
Тутъ было надлежащее мѣсто для остановки и мы стали. Съ полчаса мы только смотрѣли и думали, не говоря ни слова, потому что было что-то и жуткое и торжественное для насъ въ понятіи о томъ, что этотъ сфинксъ смотрѣлъ такъ на эту долину и думалъ свою страшную, затаенную думу, въ теченіе тысячелѣтій, какъ думаетъ ее и теперь, — и никто не могъ еще ее разгадать и до сего дня…
Я взялъ, наконецъ, подзорную трубку и замѣтилъ нѣсколько маленькихъ черныхъ существъ на бархатномъ коврѣ пустыни. Нѣкоторыя изъ нихъ лѣзли на спину сфинкса, потомъ тамъ взвились два или три клубочка бѣлаго дыма! Я сказалъ Тому, чтобы и онъ посмотрѣлъ. Онъ взглянулъ и говоритъ:
— Это жуки… Нѣтъ, постой… мнѣ кажется, это люди. Да, люди… люди, и съ лошадьми. Они втаскиваютъ лѣстницу на спину сфинкса… Что за странность!.. Теперь, они приставляютъ ее къ… И опять бѣлые клубы дыма… Это изъ ружей! Гекъ, они нападаютъ на Джима!
Мы пустили машину въ ходъ и налетѣли на нихъ однимъ махомъ. Они бросились въ разсыпную, кто куда поспѣлъ, а тѣ, которые лѣзли по лѣстницѣ къ Джиму, выпустили изъ рукъ то, за что держались, и попадали внизъ. Поднявшись къ нашему негру, мы нашли его лежащимъ на макушкѣ сфинкса; онъ совсѣмъ задыхался, горло у него перехватило, частью отъ его воплей о помощи, частью отъ перепуга. Онъ говорилъ, что выдержалъ тутъ продолжительную осаду, — въ теченіе цѣлой недѣли, до его словамъ, что было невѣрно, разумѣется, и показалось ему такъ только отъ страха. Эти люди стрѣляли въ него, сыпали вокругъ него пулями, но не могли его задѣть; тогда, увидавъ, что онъ не хочетъ встать, а пулями въ него не попадешь, пока онъ лежитъ, они притащили лѣстницу и тутъ онъ уже понялъ, что конецъ ему приходитъ, если мы не подоспѣемъ на помощь въ ту же минуту. Томъ былъ въ крайнемъ негодованіи и спрашивалъ Джима, почему онъ не выставилъ флага и не приказалъ имъ, именемъ Соединенныхъ Штатовъ, убираться прочь? Онъ отвѣчалъ, что сдѣлалъ это, но они даже вниманія не обратили. Томъ сказалъ, что представитъ дѣло на разсмотрѣніе въ Уашингтонѣ.
— Увидите, — говорилъ онъ, — что ихъ заставятъ извиниться за оскорбленіе нашего флага и заплатить еще удовлетвореніе, сверхъ того, даже въ случаѣ, если имъ удастся вывернуться.
Джимъ спросилъ:
— Что такое удовлетвореніе, масса Томъ?
— Это деньги… вотъ оно что.
— А кому же онѣ пойдутъ?
— Намъ, разумѣется.
— А извиненіе кому?
— Соединеннымъ Штатамъ. Собственно, это на нашъ выборъ: мы можемъ принять извиненіе, если желаемъ, а деньги предоставимъ правительству.
— А сколько денегъ будетъ, масса Томъ?
— Ну, въ такомъ рѣзкомъ случаѣ, какъ этотъ, пеня можетъ дойти до трехъ долларовъ на человѣка; можетъ быть, я не знаю, и болѣе.
— Такъ возьмемъ деньги, масса Томъ… ну, его, извиненіе-то! Неправда-ли, это лучше, по вашему? А по твоему, Гекъ?
Мы потолковали немного на этотъ счетъ и порѣшили, что одно было не хуже другого, но что мы возьмемъ деньги. Дѣло было новостью для меня и я спросилъ Тома, всегда-ли государства извиняются, если они не правы? Онъ отвѣтилъ:
— Да, для маленькихъ это обязательно.
Мы двигались кругомъ пирамидъ, разсматривая ихъ, потомъ поднялись и сѣли на плоскую верхушку самой высокой изъ нихъ, Оказалось, что пирамида была совершенно вѣрно описана вышеупомянутымъ лекторомъ въ нашей воскресной школѣ. Она походила на четыре ряда лѣстницъ съ широкимъ основаніемъ у земли, потомъ съуживающихся постепенно и соединяющюсся въ одну точку наверху; только по ступенямъ этихъ лѣстницъ нельзя было всходить, какъ то дѣлается на обыкновенныхъ лѣстницахъ: ступени эти были таковы, что каждая доходила вамъ до подбородка, и всходящаго надо было подсаживать сзади. Двѣ другія пирамиды были расположены неподалеку, но люди, двигавшіеся вокругъ нихъ по неску, казались намъ только копошащимися букашками, вслѣдствіе того, что мы находились на такой высотѣ надъ ними.
Томъ былъ внѣ себя: онъ былъ до того проникнутъ счастіемъ и восторгомъ, видя себя въ столь прославленной мѣстности, что исторія такъ и сочилась у него изъ всѣхъ поръ, какъ мнѣ казалось. Онъ повторялъ, что почти не можетъ вѣрить тому, что стоитъ на томъ самомъ истинномъ мѣстѣ, съ котораго принцъ поднялся на бронзовомъ конѣ. Это было во времена «Тысячи и одной ночи», говорилъ онъ. Кто-то далъ этому принцу бронзоваго коня съ гвоздикомъ въ плечѣ, и ему стоило только повертывать этотъ гвоздикъ, чтобы летѣть по воздуху, какъ птица, побывать вездѣ на свѣтѣ, править конемъ по своему произволу, подниматься выше или ниже и сходить на землю, гдѣ захочется.
Когда онъ поразсказалъ намъ все это, наступило одно изъ тѣхъ неловкихъ молчаній, которыя наступаютъ всегда, когда человѣкъ заврется и вамъ совѣстно за него, и хотѣлось бы найти средство перейти къ другому предмету, такъ, чтобы оно поглаже сошло, но на васъ находитъ столбнякъ, вы не можете придумать. ничего, и прежде чѣмъ вы соберетесь съ мыслями и сдѣлаете что-нибудь, молчаніе успѣетъ уже разростись и возьметъ свое. Я былъ въ замѣшательствѣ, Джимъ былъ тоже въ замѣшательствѣ и оба мы не знали, что сказать. Томъ вспыхнулъ, глядя на меня, и промолвилъ:
— Ну, выкладывай на чистоту. Что у тебя на умѣ?
Я отвѣтилъ:
— Томъ Соуеръ, да ты самъ этому не вѣришь.
— По какой причинѣ не вѣрю? Что мнѣ мѣшаетъ?
— Мѣшаетъ тебѣ одно только: не могло этого быть, вотъ и все!
— Почему не могло?
— Ты мнѣ скажи, по какой причинѣ могло?
— Да нашъ собственный шаръ можетъ служить достаточнымъ доказательствомъ тому, что это могло быть, я думаю.
— Почему можетъ?
— Почему? Нѣтъ, я не видывалъ такого идіота! Развѣ воздушный шаръ и бронзовый конь не одно и тоже, только подъ разными названіями?
— Вовсе нѣтъ. То конь, а то шаръ. Большая разница. Ты скажешь еще, что домъ и корова одно и тоже.
— Клянусь Джэксономъ, Гекъ-то снова подкосилъ его! Теперь уже ему не выпутаться!
— Заткни глотку, Джимъ. Самъ не знаешь, что такое толкуешь. И Гекъ тоже. Слушай, Гекъ, я постараюсь объяснить тебѣ такъ, чтобы ты понялъ. Сходство или несходство здѣсь собственно не въ формѣ, а въ принципѣ; а принципъ одинаковъ у того и у другого. Ясно это тебѣ?
Я поразмыслилъ и говорю:
— Нѣтъ, Томъ, не годится. Принципы, — это все прекрасно, но не совладать имъ съ однимъ тѣмъ неопровержимымъ фактомъ, что совершаемое шаромъ, не служитъ еще доказательствомъ того, что можетъ совершить конь.