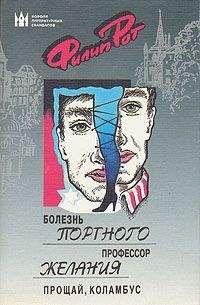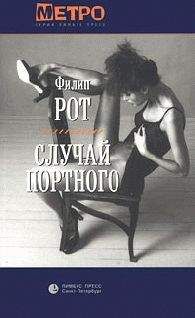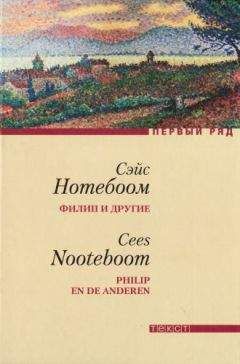И это правда. Я ложусь на кухонный стол щекой, подложив под нее фирменный бланк папиной конторы, и обвожу свой профиль карандашом. Это кошмар! Как это приключилось со мной, мама? Я ведь был таким симпатягой, когда лежал в коляске! У переносицы мой шнобель устремляется к небесам, а нижняя его часть — начиная с середины склона, примерно с того места, где заканчивается хрящ, — резко загибается ко рту. Еще два-три года — и я попросту буду не в состоянии принимать пищу! Эта штуковина преградит ей дорогу! Нет! Нет! Этого не может быть! Я отправляюсь в ванную, становлюсь перед зеркалом, и двумя пальцами приподнимаю вверх крылья носа. В профиль смотрится весьма недурно, но анфас… Там, где обычно находится верхняя губа, теперь сверкают зубы и десны. Тоже мне гой. Я похож на Багза Банни! Тогда я вырезаю из картонок, которые вкладывают в рубашки в прачечной, два треугольничка и приклеиваю их скотчем к обеим сторонам носа, восстанавливая таким образом былую изящность носа… утраченную навеки! Похоже, что горбинка — горб! — на моем носу пошла в рост именно в те дни, когда я впервые обнаружил в Ирвингтонском парке катающихся на коньках шикс — словно хрящ моего носа решил стать тайным агентом, работающим на моих родителей. Кататься на коньках с шиксами?! Только попробуй, умник! Помнишь Пиноккио? Так вот: то, что случилось с ним, не идет ни в какое сравнение с тем, что произойдет с тобой. Они будут смеяться и хохотать, свистеть и улюлюкать — хуже того: они станут обзывать тебя Гольдбергом, заставляя тебя кипеть от злости и возмущения. Над кем, по-твоему, они все время смеются? Над тобой! Над худющим жидом с громадным шнобелем, который ездит за ними по кругу, не в силах вымолвить ни слова!
— Пожалуйста, оставь в покое свой нос! — говорит мама. — Меня не интересует, Алекс, что у тебя там растет внутри. Мы все-таки обедаем.
— Но он слишком большой.
— Кто? Кто слишком большой? — спрашивает отец.
— Мой нос! — кричу я.
— Ради Бога! Он придает тебе оригинальность, подчеркивает твою характерную особенность, — заявляет мама. — Так что оставь его в покое.
Да на кой мне сдалась характерная особенность? Я хочу Тереаль Маккой! В синей парке, красных наушниках и белых варежках — мисс Америку на коньках! Я хочу ее вместе с венком из омелы на Рождество и пудингом с изюмом (что бы сие ни значило); с ее домом, в котором есть лестница на антресоли; с ее исполненными чувства собственного достоинства родителями — милыми и спокойными людьми. Меня вполне устраивает ее брат Билли, который умеет разбирать мотор, говорить «весьма вам признателен» — и никого не боится. Мне нравится, как она прижимается ко мне, забравшись с ногами на диван, как она оборачивается у дверей и говорит мне:
— Спасибо тебе за чудный-чудный вечер!
А затем это прелестное создание — которой никто еще не говорил: «Ша!» или «Я надеюсь, что твои дети когда-нибудь будут вести себя по отношению к тебе так же, как ты ведешь себя по отношению к маме!», — затем это прелестное создание, эта прекрасная незнакомка… целует меня! Целует меня, грациозно приподнявшись на одной ножке и поджав другую — и мой нос впридачу с моим именем перестают что-либо значить!
Послушайте, я ведь не прошу для себя всю Вселенную — я просто не понимаю, почему мне должно достаться меньше земных благ, чем какому-нибудь придурку вроде Хрипуна или Генри Олдрича? Я тоже хочу Джейн Пауэлл, черт подери! И Корлисс с Вероникой впридачу! Я тоже хочу быть дружком Дебби Рейнолдс — не обращайте внимания, это во мне заговорил Эдди Фишер, только и всего, Это страсть, которой одержимы все мы — все смуглые еврейские мальчики. Мы одержимы этими ласковыми светловолосыми экзотическими созданиями — шиксами… Вот только в те лихорадочные годы я еще не знал, что у каждого Эдди, томящегося по Дебби, есть Дебби, томящаяся по Эдди, — Мэрилин Монро томится по своему Артуру Миллеру, и даже Алиса Фей тоскует по Филу Харрису, Сама Джейн Менсфилд едва не вышла замуж за одного из них — помните? Но потом неожиданно погибла в автомобильной катастрофе. Кто же знал, кто же знал тогда, что эта изумительная девушка с фиолетовыми глазами, щедро одаренная всеми гойскими прелестями, — девушка, которая так отважно скакала верхом в фильме «Нэшнл Велвет», — кто же знал, что эта наездница в бриджах, обладающая безупречным произношением, испытывала к моим соплеменникам такое же вожделение, какое мы, евреи, испытывали к ней?! Потому что этот ее Майк Тодд — жалкая карикатура на моего дядю Хаима! Разве кто-нибудь, находясь в здравом уме, мог бы поверить в то, что Элизабет Тейлор воспылает страстью к дяде Хаиму? Кто же знал, что ключик к сердцу (и ящичку) шиксы находится не в руках еврея, который выдает себя за крючконосого гоя, столь же скучного и пустого, как ее брат, — а в руках моего дядюшки Хаима, моего отца, в моих собственных руках! Только нужно быть самим собой, а не изображать одного из этих полудохлых, холодных как лед Джимми, Джонни или Тодов, которые выглядели, думали чувствовали и разговаривали как пилоты истребителя-бомбардировщика!
emp
Взгляните на Мартышку — на старинную мою подружку и подельницу! Доктор, стоит мне произнести ее имя, стоит мне просто подумать о ней — и у меня сразу встает! Но я твердо знаю, что уже никогда не позвоню Мартышке и не встречусь с ней. Потому что эта сучка сошла с ума! Эта сексуальная сучка свихнулась! Вот беда-то какая…
Впрочем, кем же еще я мог стать для нее, как не евреем спасителем? Рыцарем в Блестящих Доспехах на Большом Белом Скакуне — вроде тех, о которых мечтают маленькие девочки, воображающие себя принцессами, заточенными в башню. Да-да, для целой стаи шике (Мартышка и этом смысле — восхитительный экземпляр) рыцарь этот оборачивается никем иным, как умным, лысеющим, крючконосым евреем-сознательным, совестливым и с черными кучеряшками на яйцах; он не пьет, не играет в азартные игры, не волочится за певичками; он обеспечит ее целым выводком ребятишек и приобщит ее к Кафке — обычный домашний мессия. Конечно, бунтарская юность иной раз дает о себе знать, и он частенько говорит словечки вроде «дерьмо» и «черт бы всех побрал» в домашнем кругу — даже при детях, — однако он всегда дома. И этот греющий душу факт совершенно неоспорим. Никаких баров, борделей, ипподромов, никаких партий в нарды всю ночь напролет в «Ракет-Клубе» (о котором она знает из своего стильного прошлого), никаких пивных посиделок до рассвета в «Американском Легионе» (о чем она помнит со премен своей нищей юности). Нет-нет, конечно же, нет — перед нами, леди и джентльмены, еврейский парень, который после помолвки с родителями, бьющей все рекорды продолжительности, всеми фибрами души желает стать Хорошим, Ответственным и Исполненным Сознания Долга главой собственной семьи. Те же люди, которые представляли вам Гарри Голдена в «Разговоре начистоту за два цента», имеют ныне честь представить достопочтенной публике… Шоу Александра Портного! Ежели в качестве спасителя шикс вам подходит Артур Миллер, то вы полюбите и Александра Портного! Видите ли, происхождение мое — этот момент оказался решающим для Мартышки — было прямо противоположным Мартышкиному. Пока я в Нью-Джерси плавал в шмальце (нежась в еврейской теплоте и сердечности, как сказала бы Мартышка), она прозябала в шахтерском поселке Маундсвилле, который находится в восемнадцати милях к югу от Уилинга, штат Западная Виргиния. Она в прямом смысле слова замерзала почти до смерти в холодные зимние дни, ибо отец, которого она описывала как ближайшего — в первом поколении — потомка мула, воспринимал ее лишь как часть движимого имущества; для матери же (женщины с добрыми намерениями — намерения эти были добрыми настолько, насколько могут быть добрыми намерения не умеющей ни читать, ни писать женщины, предки которой спустились с гор всего одно поколение тому назад; ко всему прочему надо добавить, что у нее не было во рту ни одного коренного зуба) — так вот, для матери Мартышка представляла собой совершенно недоступную ее интеллекту обузу, которой вечно чего-то не хватает.
Вот одна из историй Мартышки, которая произвела на меня сильнейшее впечатление (хотя нельзя сказать, что другие ее истории, исполненные жестокости и повествующие о невежестве и чудовищной эксплуатации, не привлекли внимания разборчивого неврастеника): однажды, когда Мартышке было одиннадцать лет, она, вопреки воле отца, в одну из суббот сбежала из дому на занятия балетного класса, которые вел местный «артист» по имени Морис. Папаша Мартышки вскоре заявился на урок с ремнем, стащил дочку со сцены, всю дорогу до дома хлестал ее этим ремнем по лодыжкам, а потом запер до конца дня в чулане — со связанными ногами. Чтобы неповадно было
— Еще раз застану тебя у этого педрилы, — заявил! Мартышкин папа, — я тебе тогда не просто ноги свяжу… Я тебе кой-чего почище устрою… Будь уверена…