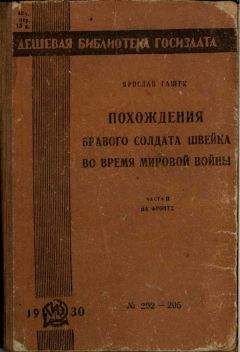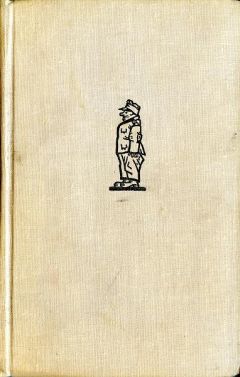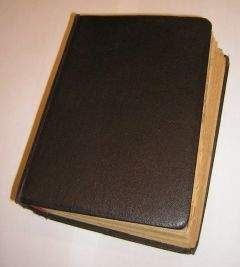— Осмелюсь доложить, господин старший писарь, эти бумаги, которые мне выдали в полковой канцелярии, я должен отдать вам. Это насчет моего жалования и пайка.
Швейк держался в канцелярии 11-й маршевой роты так свободно и развязно, как будто он с Ванеком был в самых приятельских отношениях. На все это военный писарь реагировал только словами:
— Положите это на стол.
— Будьте любезны, старший писарь, оставьте нас со Швейком одних, — сказал со вздохом поручик Лукаш.
Ванек ушел и остался за дверью подслушать, о чем они будут говорить.
Сначала он ничего не слышал: Швейк и поручик Лукаш молчали и долго смотрели друг на друга. Лукаш смотрел на Швейка, словно хотел его загипнотизировать, как петушок, стоящий против курочки и готовящийся на нее прыгнуть.
Швейк, как всегда, смотрел своим теплым нежным взглядом на поручика, как будто хотел ему сказать: «Опять мы вместе, моя душенька. Теперь ничто нас не разлучит, голубчик ты мой».
И так как поручик долго не прерывал молчания, глаза Швейка говорили ему с печальной негой: «Так скажи что-нибудь, золотой мой, промолви хоть словечко!»
Поручик Лукаш прервал это мучительное молчание словами, вложив в них изрядную порцию иронии.
— Добро пожаловать, Швейк! Благодарю вас за посещение. Наконец-то вы здесь, долгожданный гость.
Но он не сдержался, и вся злость, скопившаяся за последние дни, вылилась в ужасающем ударе кулаком по столу. Чернильница подскочила и залила чернилами ведомость на жалование. Вместе с чернильницей подскочил поручик Лукаш и, подбежав к Швейку, закричал:
— Скотина!
Он стал метаться взад и вперед по узкой канцелярии и, пробегая около Швейка, каждый раз отплевывался.
— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — сказал Швейк, между тем как поручик Лукаш не переставал бегать по канцелярии и свирепо бросать в угол скомканные листы бумаги, которые он хватая со стола. — Письмо я отдал в полной исправности, К счастью, мне удалось застать дома самое пани Каконь и могу сказать о ней, что это весьма красивая женщина, видел, правда, я ее только плачущей…
Поручик Лукаш сел на койку военного писаря и хриплым голосом произнес:
— Когда же будет конец всему этому!
Швейк, сделав вид, что не дослышал, продолжал:
— Потом со мной случилась там маленькая неприятность, но я взял все на себя. Мне там не верили, что я переписываюсь с этой пани, так я, для того чтобы замести все следы, счел самым благоразумным при допросе письмо проглотить. Потом благодаря чистой случайности — иначе это никак нельзя объяснить! — я вмешался в небольшую потасовку, но из этого я вывернулся. Признана была моя невинность, меня послали к полковнику, и в дивизионном суде следствие прекратили. В полковой канцелярии меня задержали всего минуты две, пока не пришел полковник, который меня слегка выругал и сказал мне, что я немедленно должен, господин обер-лейтенант, явиться с рапортом о вступлении в должность ординарца к вам. Кроме того, господин полковник приказал мне доложить вам, чтобы вы немедленно к нему пришли по делам маршевой роты. С тех пор прошло больше получаса. Ведь господин полковник не знал, что меня потянут в полковую канцелярию и что я там просижу больше четверти часа. Все это из-за того, что за все это время мне задержали жалование, которое мне должны были выдать не в роте, а в полку, так как я считался полковым арестантом. Там все так перемешали и перепутали, что прямо обалдеть можно.
Услышав, что еще полчаса тому назад он должен был быть у полковника Шредера, поручик стал быстро одеваться.
— Опять, Швейк, удружили вы мне! — сказал он голосом, полным безнадежного отчаяния.
Швейк попытался успокоить его дружеским словом, прокричав вслед выбежавшему бомбой поручику Лукашу:
— Ничего, полковник подождет: ему все равно нечего делать!
Минуту спустя после ухода поручика, в канцелярию вошел старший писарь Ванек.
Швейк сидел на стуле и подкладывал в маленькую железную печку угли, кидая через отворенные дверки куски угля в огонь. Печка чадила и воняла, а Швейк продолжал забавляться, не обращая внимания на Ванека, который остановился и несколько минут наблюдал за Швейком, наконец не выдержал, захлопнул ногой дверцу печки и сказал Швейку, чтобы тот оттуда убирался.
— Господин старший писарь, — произнес с достоинством Швейк, — позвольте вам заявить, что ваш приказ убраться не только отсюда, но вообще из лагеря, при всем моем желании исполнить не могу, так как подчиняюсь приказанию высшей инстанции. Ведь я ординарец, — гордо добавил Швейк. — Господин полковник Шредер прикомандировал меня в 11-ю маршевую роту к господину обер-лейтенанту Лукашу, у которого я был прежде денщиком, но благодаря моей врожденной интеллигентности я получил повышение на ординарца. Мы с господином обер-лейтенантом уже старые знакомые. А чем вы занимались, господин старший писарь, в мирное время?
Полковой писарь Ванек был так обескуражен фамильярным панибратским тоном бравого солдата Швейка, что, забыв о своем чине, которым очень любил блеснуть перед простыми солдатами, ответил, как будто бы был подчинен Швейку.
— Я служил приказчиком в аптекарском магазине в Кралупах. Фамилия моя Ванек.
— Я тоже учился аптекарскому делу, ответил Швейк. — в Праге у пана Кокошки на Перштине[99]. Он был большой руки чудак, и когда, как-то по ошибке, я запалил бочку с бензином и у него сгорел дом, он меня выгнал, и в цех меня уже нигде больше не принимали, так что из-за этой глупой бочки с бензином мне не удалось доучиться. Приготовляли ли вы также целебные травы для коров?
Ванек отрицательно покачал головой.
— Мы приготовляли целебные травы для коров вместе с освященными образочками. Наш хозяин Кокошка был исключительно набожный человек и вычитал как-то, что святой Пилигрим исцеляет скот от раздутого брюха. Так, по его заказу на Смихове напечатали образки святого Пилигрима, и он отнес их в Эмаусский монастырь, где их ему и освятили за двести гульденов, а потом мы их вкладывали в конвертик с нашими целебными травами для коров. Корове эти целебные травы сыпали в теплую воду и давали ей пить эту бурду из лохани. При этом скотине прочитывалась маленькая молитва к святому Пилигриму, молитву же эту сочинил наш приказчик Таухен. Дело было так. Когда эти образки святого Пилигрима были напечатаны, так на другой стороне нужно было напечатать какую-нибудь молитву. Так вот наш старик Кокошка позвал Таухена и говорит ему, чтобы он к следующему утру сочинил молитву к нашим образкам и целебным травам, чтобы завтра, в десять часов, когда он придет в лавку, все уже было готово, чтобы можно было отправить в типографию: коровы уже давно ждут этой молитвы. Одно из двух: если сочинит хорошо — он ему гульден на бочку выложит, нет — через две недели получит расчет. Пан Таухен целую ночь потел, а утром, невыспавшийся, пришел открывать лавку, а у него ничего еще не было написано. Мало того: забыл, как святой этих целебных трав зовется. Выручил его из беды посыльный Фердинанд. Тот на все руки был мастер. Когда мы на чердаке сушили чай из ромашки, так он, бывало, разумеется и влезет в эту самую ромашку ногами. Он говорил нам, что от этого ноги перестают потеть. Умел он ловить голубей на чердаке, умел открывать конторку с деньгами, обучал нас и еще другим способам подрабатывать, и у меня, у мальчишки, дома была такая аптека, я ее из лавки в дом к себе натаскал, какой не было, и «У милосердных»[100]. Так вот тот самый Фердинанд и выручил из беды Таухена. «Позвольте. — говорит, — взглянуть». Пан Таухен немедленно послал меня за пивом для него, и не успел я еще принести пива, а уж Фердинанд наполовину был готов с этим делом и прочел нам во всеуслышание:
Голос с неба раздается,
Утихает суета:
У Кокошки продается
Чудо-корень для скота!
Исцелит сей корешочек
(Только гульден за мешочек!)
И теляток и коров
Безо всяких докторов.
Потом, когда выпил пива и как следует лизнул валериановых капель, дело пошло быстро, и он в одно мгновение прекрасно закончил:
Этот корень нашел сам святой Пилигрим,
И за это ему мы хвалу воздадим:
Ты крестьянам — утеха, коровам — отрада,
Сохрани и спаси наше бедное стадо!
Затем, когда пришел пан Кокошка, пан Таухен пошел с ним в контору, а когда вышел оттуда, показал нам два золотых, а не один, как ему было обещано. Ну, он хотел разделить их пополам с паном Фердинандом, но слугу Фердинанда, когда он увидел эти два золотых, сразу обуял бес корыстолюбия, говорит: «Или все или ничего!» Ну тогда пан Таухен ему ничего не дал, а оставил эти два золотых себе. Потом привел меня в магазин, дал мне подзатыльник и сказал, что я получу сто таких подзатыльников, если когда-нибудь осмелюсь сказать, что не он сочинил. А если бы Фердинанд пошел жаловаться к нашему хозяину, то я должен сказать, что слуга Фердинанд — лгун. Мне пришлось в этом присягнуть перед бутылкой с уксусной эссенцией. Ну, а наш слуга принялся вымещать на целебной траве для коров. Смешивали мы эти травы в больших ящиках на чердаке, а он, где только находил, сметал мышиное дермо, приносил его и примешивал к этой целебной траве. Потом собирал на улице конские катушки, сушил их дома, толок в ступке для целебных трав и тоже подбрасывал в целебные травы для коров с образом святого Пилигрима. Но и на этом он не успокоился. Он мочился в эти ящики, испражнялся в них, а потом все это размешивал. Выходило вроде каши из отрубей…