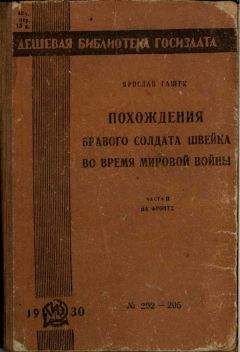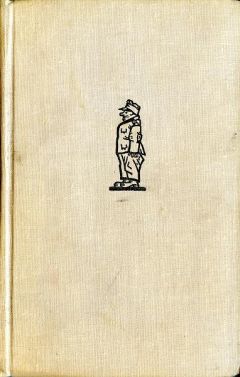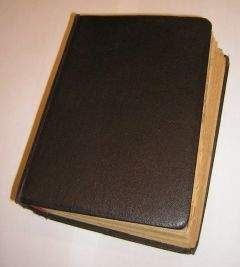— Если бы я совершил что-нибудь бесчестное, так не признался бы, — сказал сапер Водичка. — Ну, а если меня этот тип аудитор прямо спрашивает: «Дрались?» Так я ему ответил: «Да, дрался». — «Избили ли кого-нибудь?» — «Так точно, господин аудитор». — «Дошло ли дело до членовредительства?» — «Ясно, господин аудитор». Пусть знает, с кем говорит! Какой срам, что нас освободили! Этак выходит, словно он не хотел верить, что я измочалил об этих мадьярских хулиганов свой пояс, что я их в лапшу превратил и наставил им шишки и фонарей. Ты ведь был при этом, как на меня навалились три мадьярских халуя и как через минуту все они валялись на земле, и я топтал их ногами. И после всего этого какой-то там аудиторский сморкач прекращает следствие. Это все равно, как если бы он сказал мне: «Всякая з… лезет еще драться!» Как только кончится война, и я буду штатский, я его, растяпу, разыщу и покажу ему, как я не умею драться! Потом приеду сюда в Кираль-Хиду и устрою здесь такой мордобой, что еще в мире такого не было! Люди будут прятаться в погреба, как только услышат, что я пришел посмотреть на этих киралхидских бродяг, на этих босяков, на этих мерзавцев!
☆
В канцелярии с делом было покончено в три счета. Фельдфебель с еще жирными от обеда губами, подавая Швейку и Водичке бумаги и сделав при этом чрезвычайно серьезное лицо, не преминул произнести перед обоими речь, в которой апеллировал к их воинскому духу. Речь свою (он был силезский поляк) фельдфебель уснастил перлами своего диалекта. При прощании Швейк сказал Водичке:
— Как только кончится война, зайди меня проведать. Я каждый вечер от шести часов «У Чаши» на Боище.
— Разумеется приду, — ответил Водичка, — скандалы-то там бывают?
— Каждый день, — обещал Швейк, — а уж если будет очень тихо, так мы по силе возможности сами что-нибудь состряпаем.
Друзья разошлись, и, когда уже были на порядочном расстоянии друг от друга, старый сапер Водичка крикнул Швейку.
— Так ты там уж позаботься о каком-нибудь для меня развлечении, когда я туда приду!
На что Швейк закричал:
— Так непременно приходи после войны!
Удалились еще дальше друг от друга, и вдруг послышался из-за угла второго ряда бараков голос Водички:
— Швейк! Швейк! Какое подают «У Чаши» пиво?
Как эхо отозвался ответ Швейка.
— Великопоповицкое!
— А я думал, что смиховское! — кричал издали сапер Водичка.
— Есть там и девочки! — кричал Швейк.
— Так значит после войны в шесть часов вечера! — кричал издалека Водичка.
— Приходи лучше в половине седьмого, на случай, если я запоздаю! — ответил Швейк.
Потом донесся еще, уже совсем откуда-то издалека, голос Водички.
— А в шесть часов притти не сможешь?
— Приду в шесть! — услышал Водичка ответ удаляющегося товарища.
Так разлучились бравый солдат Швейк со старым сапером Водичкой.
Друзья в минуту расставанья
С надеждой шепчут: «До свиданья»[96]
Глава V
Из Моста на Летаве в Сокал
Взбешенный поручик Лукаш бегал по канцелярии 11-й маршевой роты. Это была темная дыра в сарае, где помещалась рота, отгороженная только досками от коридора. В канцелярии стояли стол, два стула, бутыль с керосином и койка. Перед Лукашем стоял старший писарь Ванек, который составлял в этом помещении ведомости на солдатское жалование, вел отчетность о солдатской кухне, одним словом, был министром финансов всей роты, проводил тут целый божий день, здесь же и спал. У дверей стоял толстый пехотинец, обросший бородой, как краконош[97]. Это был Балоун, новый денщик поручика, до военной службы мельник, из-под Чешского Крумлова.
— Нечего сказать, нашли вы мне денщика, — обратился поручик Лукаш к старшему писарю, — большое вам спасибо за такой сюрприз! В первый день посылаю его за обедом в офицерскую кухню, а он по дороге сожрал половину моего обеда.
— Виноват, я его розлил, — заявил толстенный великан.
— Допустим, что так. Разлить можно суп или соус, но не франкфуртское жаркое. Ведь ты от жаркого принес такой кусочек, что его за ноготь спрятать можно. Ну, а куда ты дел яблочный пирог?
— Я…
— Нечего врать. Ты его сожрал!
Последнее слово поручик произнес так строго и так энергично, что Балоун на всякий случай отступил на два шага.
— Я сегодня справлялся в кухне, что у нас было к обеду. Был суп с фрикадельками из печенки. Куда девал ты фрикадельки? Дорогой повытаскивал? Ясно, как день. Кроме того была вареная говядина с огурцом. Куда она делась? Тоже сожрал. Два куска франкфуртского жаркого, а ты принес мне только полкусочка. Ну? Два куска яблочного пирога. Куда их девал? Напичкался, паршивая и грязная свинья? Отвечай, куда дел яблочное пирожное? Может, ты в грязь его уронил? Ну, мерзавец! Укажи мне то место, где лежит этот кусок в грязи. Может, как нарочно, прибежала туда собака, нашла этот кусок и унесла его. Боже ты мой, Иисусе Христе! Я так набью тебе морду, что разнесет ее как лохань! Эта сволочь осмеливается еще врать! Знаешь, кто тебя видел? Старший писарь Ванек. Он сам пришел ко мне и говорит: «Осмелюсь доложить, господин поручик, ваш Балоун жрет, сукин сын, ваш обед. Смотрю я в окно, а он напихивается, как будто целую неделю ничего не ел». Послушайте, старший писарь, неужто вы не могли найти худшую скотину, чем этот молодчик?
— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, мне Балоун показался из всей маршевой роты самым подходящим человеком. Это такая дубина, что не мог запомнить ни одного ружейного приема, и дай ему в руки винтовку, так он бы еще бед наделал. Недавно на стрельбе холостыми зарядами чуть-чуть не прострелил глаз своему соседу. Я полагал, что он, по крайней мере, на эту-то службу будет годен.
— Сожрать обед у своего офицера! — сказал Лукаш. — Как будто ему не хватает его порции. Ну теперь, полагаю, ты уже сыт?
— Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я всегда голоден. Если у кого остается хлеб, — так я тут же вымениваю его на папиросы, и все мне мало, такой уже я уродился. Думаю: ну теперь уж сыт — ай нет! Минуту спустя начнет у меня опять в животе урчать, как до еды, и глядь, он, стерва, опять дает о себе знать. Иногда думаю, что уж взаправду хватит, что больше в меня уж не влезет, так нет тебе! Как увижу, что кто-нибудь ест или почую какой-нибудь запах, и сразу в животе, точно его помелом вымели: опять начинает заявлять о своих правах. Я тут готов хоть гвозди глотать! Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, — я уж не раз просил: нельзя ли мне получать двойную порцию. Из-за этого я был в Будейовицах у полкового врача, а тот вместо двойной порции засадил меня на два дня в лазарет и прописал мне в день лишь чашку чистого бульона. «Я, — говорит, — покажу тебе, каналье, как тебе твоей порции не хватает! Приди еще только раз, так уйдешь отсюда как щепка». Мне никак нельзя, господин поручик, видеть вкусных вещей, да и простые возбуждают во мне такой аппетит, что у меня слюнки текут. Осмелюсь просить, господин обер-лейтенант, сделайте такую божескую милость, распорядитесь, чтобы мне выдавали двойную порцию. Если мяса не будет, то хотя бы давали картошку, кнедлики, немножко соуса, ведь это всегда остается.
— Довольно с меня твоих наглых выходок! — ответил поручик Лукаш. — Видали вы когда-нибудь, старший писарь, более нахального солдата, чем этот балбес: сожрал обед да еще хочет, чтобы ему выдавали двойную порцию. Этот обед тебе колом выйдет! Старший писарь, — обратился он к Ванеку, — отведите его к капралу Вейденгоферу, пусть тот его покрепче привяжет на дворе около кухни на два часа, когда будут раздавать гуляш. Пусть привяжет повыше, чтобы он держался только на самых цыпочках и видел, как в котле варится гуляш. Да устройте так, чтобы подлец этот был еще привязан, когда будут раздавать гуляш, чтобы у него слюнки потекли, как у голодной суки, когда та трется у колбасной. Скажите повару, пусть его порцию разделит и раздаст.
— Слушаю-с, господин обер-лейтенант. Идемте Балоун.
Когда они уже уходили, поручик задержал их в дверях и, глядя прямо в испуганное лицо Балоуна, победоносно провозгласил:
— Ну что? Добился своего? Приятного аппетита! А если еще раз проделаешь со мной такую штуку, я тебя без всяких пошлю в военно-полевой суд!
Когда Ванек вернулся и объявил, что Балоун уже привязан, поручик Лукаш сказал:
— Вы меня, Ванек, знаете, я не люблю делать таких вещей, но я не мог поступить иначе. Во-первых, вы знаете, что когда даже у собаки отнимают кость, так и она огрызается. Я не хочу, чтобы возле меня жил негодяй. Во-вторых, то обстоятельство, что Балоун привязан, имеет крупное моральное и психологическое значение для всей команды. За последнее время ребята, как только попадут в маршевый батальон и знают, что их завтра или послезавтра отправят на позиции, делают что им вздумается. — Поручик с измученным видом тихо продолжал — Позавчера во время ночных маневров должны были мы действовать против учебной команды вольноопределяющихся за сахарным заводом. Первый взвод, шедший в авангарде под моей командой на шоссе, более или менее соблюдал тишину, но второй, который должен был итти налево и расставить под сахарным заводом дозоры, тот вел себя как возвращающаяся с загородной прогулки молодежь. Поют себе и стучат ногами, так что в лагере было слышно. Кроме того на правом фланге шел на рекогносцировку местности около леса третий взвод. Это было от нас на расстоянии по крайней мере десяти минут ходьбы, а все же ясно было видно, как эти мерзавцы курят: повсюду огненные точки. А четвертый взвод, тот, который должен был быть арьергардом, чорт знает каким образом вдруг появился перед нашим авангардом, так что был принят за неприятеля, и я сам должен был отступить перед собственным арьергардом, наступающим на меня. Это была одиннадцатая маршевая рота, которую теперь мне дали. Что я из этой команды могу сделать? Как они будут вести себя во время боя.