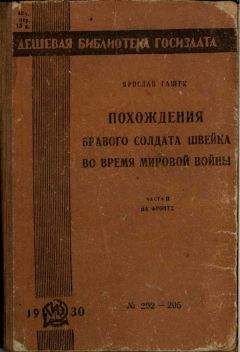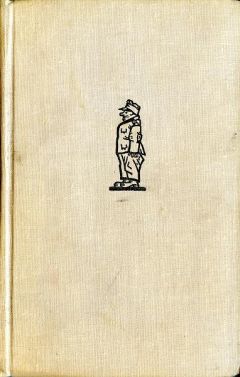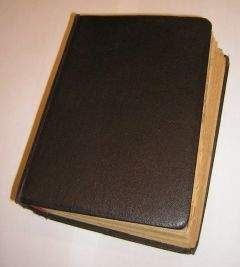— Вам следовало бы отрапортовать, что он дезертировал, — авторитетно присовокупил Швейк, — что уж он давно к этому готовился: каждый день говорил, что удерет.
— Стоило нам еще об этом думать, — ответил Водичка. — Мы свое дело сделали, а об остальном мы не заботились. Там это было просто: каждый день кто-нибудь пропадал, а уж из Дрины не вылавливали. Премило плыли там по Дрине в Дунай раздутый чужак с нашим изуродованным запасным. Неискушенные, когда в первый раз это увидят, — так их дрожь пробирает, чисто в лихорадке.
— Им следует дать хины, — сказал Швейк.
С этими словами от вступили в барак, где помещался дивизионный суд, и конвойные их немедленно отвели в канцелярию № 8, где за длинным столом, покрытым кипою бумаг, сидел аудитор Руллер.
Перед ним лежал том Свода законов, на котором стоял недопитый стакан чаю. На правой стороне стояло распятие из поддельной слоновой кости с покрытым пылью Христом, который безнадежно глядел на подставку своего креста, на котором лежали пепел и окурки. Аудитор Руллер одной рукой постукивал новой папиросой о подставку распятия, к новой скорби распятого бога, а другой отдирал стакан с чаем, который прилепился к Своду законов. Отодрав стакан, он продолжал дальше перелистывать книгу, взятую в офицерском собрании. Это была книга Фр. С. Краузе с многообещающим заглавием: «Forschungen zur Entwicklungsgeschichte der geschlechtlichen Moral»[93].
Аудитор увлекся рассматриванием репродукций с наивных рисунков мужского и женского половых органов с соответствующими стихами, которые открыл ученый Фр. С. Краузе в уборных берлинского западного вокзала, и не заметил вошедших.
Он оторвался от репродукций, только после того как Водичка закашлял.
— Was geht los?[94] — спросил он, перелистывая дальше и разыскивая новые примитивные рисунки и зарисовки.
— Осмелюсь доложить, господин аудитор, — ответил Швейк, — коллега Водичка простудился и кашляет.
Аудитор только теперь взглянул на Швейка и Водичку. Он постарался придать своему лицу строгое выражение.
— Наконец-то притащились, — сказал аудитор, роясь в куче дел на столе. — Я приказал вас позвать в девять часов, а теперь уже без малого одиннадцать. Как ты стоишь, осел? — обратился он к Водичке, который осмелился стоять «вольно». — Когда скажу «вольно», можешь делать со своими ножищами что хочешь,
— Осмелюсь доложить, господин аудитор, — отозвался Швейк, — он страдает ревматизмом.
— Держи язык за зубами! — сказал аудитор Руллер. — Ответишь, когда тебя спросят. Был ты у меня уже три раза на допросе, и из тебя ничего не вытащишь. Найду я это дело наконец или не найду? Досталось мне с вами, негодяями, хлопот! Ну, да это вам даром не пройдет, попусту заваливать суд работой! Ну так слушайте, кропивное семя, — сказал он, вытаскивая из груды актов большое дело, озаглавленное: «Швейк и Водичка». Не думайте, что из-за какой-то глупой драки, вы и дальше будете валяться на боку в дивизионной тюрьме и окопаетесь здесь на время от фронта. Из-за вас, олухов, мне пришлось телефонировать в суд при штабе армии.
Аудитор вздохнул.
— Что ты строишь такую серьезную рожу — чисто невинный. На фронте у тебя пройдет пыл драться с гонведами, — сказал аудитор Швейку. — Дело о вас обоих прекращается, и каждый из вас пойдет в свою часть, где будет наказан в дисциплинарном порядке, а потом отправитесь со своей маршевой ротой на фронт. Попадитесь только еще раз мне, негодяи, в руки! Я вас так проучу, что вы долго этого не забудете! Вот вам ордер об освобождении, и ведите себя прилично. Отведите их во второй номер.
— Осмелюсь доложить, господин аудитор, — сказал Швейк, — мы оба все ваши слова запечатлели в наших сердцах и несказанно вам благодарны за вашу доброту. Не будь это на военной службе, так я позволил бы назвать вас золотым человеком. Мы оба вас неоднократно просим простить нас за то, что вам пришлось из-за нас столько беспокоиться. По правде сказать, мы этого не заслужили.
— Убирайтесь вы наконец ко всем чертям! — крикнул на Швейка аудитор. — Не попроси за вас полковник Шредер, так не знаю, чем бы все это дело кончилось.
Водичка почувствовал себя старым Водичкой только в коридоре, когда они пошли вместе с конвоем в канцелярию № 2.
Солдат, который их сопровождал, боялся опоздать к обеду и заявил им:
— Так вы ребята маленько прибавьте шагу. Тащитесь, словно вши.
В ответ на что Водичка заявил конвоиру, чтобы он особенно не разорялся, счастлив его бог, что он чех, а будь бы он мадьяр, он разорвал бы его, как селедку.
Ввиду того что военные писаря ушли из канцелярии на обед, конвоир, который сопровождал Швейка и Водичку, принужден был отвести их обратно в арестантское помещение дивизионного суда. Конвоир на чем свет стоит проклинал ненавистную расу военных писарей.
— Товарищи опять выловят у меня весь жир из супа, — завопил он трагически, — а вместо мяса оставят одни жилы. Вчера вот тоже конвоировал двоих в лагерь, а кто-то у меня сожрал полпайка, который за меня получили.
— Вы в дивизионном суде кроме жратвы ни о чем другом не думаете, — сказал совсем воспрянувший духом Водичка.
Когда Швейк и Водичка рассказали вольноопределяющемуся, чем кончилось их дело, он воскликнул:
— Так значит в маршевую роту, друзья! «Пожелаем же попутного ветра, вашей экскурсии», как написали бы в журнале чешских туристов. Подготовительные работы к экскурсии уже закончены. Предусмотрительное начальство обо всем позаботилось. А вы, записанные, как участники экскурсии в Галицию, отправляйтесь в путь-дорогу в веселом настроений и с легким сердцем. С теплой любовью встретьте область, которая познакомит вас с окопами. Прекрасное и интересное зрелище. Вы почувствуете себя на далекой чужбине как дома, как в родном краю, почти как у домашнего очага. С возвышенным чувством вы вступите в области, о которых еще старый Гумбольд сказал: «Во всем мире я не видел более великолепного зрелища, чем эта дурацкая Галиция!» Богатый опыт, приобретенный нашей победоносной армией при отступлении из Галиции после первого похода, несомненно явится путеводной звездой при составлении программы второго похода. Только вперед прямехонько в Россию и на радостях выпустите в воздух все патроны!
После обеда перед уходом Швейка и Водички в канцелярию к ним подошел несчастный учитель, сложивший стихотворение о вшах и, отведя обоих в сторону, таинственно сказал:
— Не забудьте, когда будете на русской стороне, немедленно сказать русским: «здравствуйте, русские братья, мы братья-чехи, мы нет аустрийцы».
Когда они уходили из казарм, Водичка, желая демонстративно выразить свою ненависть к мадьярам и показать, что даже арест не мог поколебать и сломить его убеждений, наступил мадьяру, принципиально отвергающему военную службу, на ногу и заорал на него:
— Обуйся, культяпый!
— Жалко, что ничего не ответил, — с неудовольствием сказал сапер Водичка Швейку. — Зря, что ничего не сказал. Я бы его мадьярскую харю разорвал бы от уха до уха. А он, дурачина, молчит и позволяет наступать себе на ногу. Чорт побери, Швейк, злость меня берет, что нас не осудили! Этак выходит, что над нами вроде как насмехаются. А ведь мы, по правде сказать, дрались, как львы. Это ты виноват, что нас не осудили, а дали нам такое удостоверение, как будто мы и драться по-настоящему не умеем. За кого они собственно нас считают? Как никак это был вполне приличный конфликт.
— Милый мой, — сказал добродушно Швейк, — я собственно как следует не понимаю, чем ты недоволен. Ведь дивизионный суд официально признал нас за абсолютно приличных людей, против которых он ничего не имеет. Правда я при допросе всячески вывертывался, так это требуется. «Ваш долг врать», говорит всегда адвокат Басс своим клиентам. Когда меня аудитор спросил: «Зачем вы ворвались в квартиру господина Каконя?» — так я ему на это просто ответил: «Я полагал, что мы ближе всего познакомимся с господином Каконем, если будем ходить к нему в гости». После этого аудитор уже больше ни о чем меня не спрашивал. Этого ему было вполне достаточно. Запомни, брат, раз навсегда, — продолжал Швейк свои рассуждения, — перед военными судами нельзя признаваться. Когда я сидел в тюрьме при гарнизонном суде, так в соседней камере один солдат признался, а когда остальные арестанты об этом узнали, так «накрыли его одеялом»[95] и заставили его отречься от своего признания.
— Если бы я совершил что-нибудь бесчестное, так не признался бы, — сказал сапер Водичка. — Ну, а если меня этот тип аудитор прямо спрашивает: «Дрались?» Так я ему ответил: «Да, дрался». — «Избили ли кого-нибудь?» — «Так точно, господин аудитор». — «Дошло ли дело до членовредительства?» — «Ясно, господин аудитор». Пусть знает, с кем говорит! Какой срам, что нас освободили! Этак выходит, словно он не хотел верить, что я измочалил об этих мадьярских хулиганов свой пояс, что я их в лапшу превратил и наставил им шишки и фонарей. Ты ведь был при этом, как на меня навалились три мадьярских халуя и как через минуту все они валялись на земле, и я топтал их ногами. И после всего этого какой-то там аудиторский сморкач прекращает следствие. Это все равно, как если бы он сказал мне: «Всякая з… лезет еще драться!» Как только кончится война, и я буду штатский, я его, растяпу, разыщу и покажу ему, как я не умею драться! Потом приеду сюда в Кираль-Хиду и устрою здесь такой мордобой, что еще в мире такого не было! Люди будут прятаться в погреба, как только услышат, что я пришел посмотреть на этих киралхидских бродяг, на этих босяков, на этих мерзавцев!