Возле камеры появился оператор и начал возить ее туда-сюда, целясь в меня ее стеклянным глазом.
— Галстука нет! — пожаловался я.
— Пошарь на спине,— не задумываясь, посоветовал он.
Я выкрутил галстук на его законное место и попытался придать ему надлежащее положение, но оказалось, что руки дрожат еще сильнее, чем ноги. Я скрестил ладони на груди, а кончики пальцев зажал под мышками.
Но тут прибежал помощник режиссера и закричал:
— Это еще что за Наполеон Бонапарт?! Убери руки!
В отчаянии я сжал кулаки, один сунул в карман, а другим подпер щеку.
Откуда-то сверху раздался усиленный динамиками, громоподобный голос режиссера:
— Да он у вас совсем скис! Подбодрите его!
— Сейчас! — пообещал помощник и гаркнул мне: — Ну! Чего приуныл? Сколько у нас в области населения, знаешь?
— Миллионов пять.
— Правильно. Видишь красный глазок над объективом? Как только он загорится, тебя сразу увидят и услышат пять миллионов. А ну, глянь на них орлом!
Я глянул орлом. Но и «они» глянули на меня орлами. Пять миллионов! Я оцепенел, окаменел...
— Ты что ему сказал?! — заорал сверху режиссер.— Зачем маленьких пугаешь?.. А ты успокойся.— Это уже мне.— Какие пять миллионов, когда по первой программе идет футбол?
Эти слова вернули меня к жизни. Действительно, если идет футбол, миллиона четыре наверняка там — уже легче. Но и остающийся на мою долю миллион продолжал волновать и давить. Мне страстно захотелось свести его к возможно более скромному числу. Я погрузился в подсчеты. «Так... Если эти, которых миллион, не любители футбола, значит ли это, что они любители поэзии? Сколько у нас может быть любителей поэзии? Если судить по тиражам поэтических книжек — десять тысяч. Не миллион, но многовато...»
Сверху донеслось:
— Приготовиться! Осталась одна минута.
Это не очень напугало меня: я весь сосредоточился на подсчетах. «Десять тысяч... Из них половина — дети, они очень любят стихи. Время позднее, дети уже спят. Пять тысяч... Из них половина, а то и больше, читают только классиков. Сбросим три тысячи, остается две. Тут я подумал, что поэты, когда читают стихи, почему- то обязательно завывают, как вьюга в печной трубе.
Будем считать так: половина не любит слушать поэтов, половина терпит. Тысяча. Но ведь кого на самом деле хотят слушать, ждут? Знаменитых поэтов. Во всяком случае их ждут девять десятых. Значит, сто в остатке... Вот это уже мои. Где-то сейчас сидят сто человек, готовых, так и быть, послушать скромного молодого поэта. Но, впрочем, почему именно меня? Ведь я еще ничем не выделяюсь среди других молодых поэтов нашего города, а их никак не меньше сотни. Что же это значит?..»
— Внимание! — грохочет в динамиках.— Тишина в студии! Выходим в эфир.
«Это значит,— с изумлением думаю я,— что на мою долю, вероятней всего, приходится один-единственный потенциальный зритель. Кто бы это мог быть?»
Загорается красный глазок, камера наезжает на меня почти вплотную, я явственно вижу свою жену и говорю...
— Дорогая,— говорю я.— Ты просила почитать тебе стихи. Итак, слушай...
— Итак, товарищи, перед вами дом-музей нашего замечательного поэта, здесь бережно сохраняется все, что связано с его пребыванием, если бы оно состоялось. Как известно, в письмах дядюшке, нашему земляку, поэт неоднократно давал обещание приехать. И только безвременная кончина помешала ему совершить эту поездку.
В доме все сохранено в том виде, в каком оно было при жизни поэта. Вот по этим ступеням он поднялся бы на крыльцо, пройдем по этим священным ступеням и мы.
Перед вами вестибюль. Именно здесь состоялась бы встреча племянника с дядюшкой, если бы она состоялась. В связи с этим вы видите здесь фотографию дядюшки, на которой он был бы изображен вместе с племянником, если бы племянник приехал.
Пройдем дальше. Перед вами кабинет. Здесь тоже все, как было. Вот это перо он макал бы в эту чернильницу. Именно за этим столом он создал бы свои незабываемые шедевры, созданные в других местах, в связи с неприездом.
Перед вами любопытный макет дома-музея и ближайших подворий. Вот эти фигурки — филеры местной полиции. Макет наглядно показывает, как осуществлялся бы надзор за домом дяди, если бы племянник приехал.
Взглянем на этот женский портрет. Нежный овал лица, выразительный, смелый взгляд, общая возвышенность натуры... Это двоюродная сестра поэта, дочь дяди, передовая девушка своего времени. Именно ею увлекся бы наш гость, ибо, по воспоминаниям современников, он увлекался передовыми девушками и возвышенными натурами. Рядом помещена факсимильная копия его знаменитого стихотворения «К Н. Н.». Кто такая Н. Н., науке до сих пор неизвестно, но можно с большой вероятностью считать ее двоюродной сестрой поэта, если бы он приехал.
В этом отделанном бархатом ящике вы видите дуэльные пистолеты. Это немые свидетели дуэли между присяжным поверенным Мясниковым, нареченным женихом передовой девушки, и нашим гостем, которая непременно состоялась бы, если бы он приехал.
На этом я вынужден прервать нашу экскурсию и вернуться на основное место работы, так как дом-музей имеет только полставки экскурсовода. Нет никаких сомнений, что мы имели бы полную ставку, если бы он приехал.
«Редактору литературного журнала «Кедр» от жены бывшего ночного сторожа редакции.
Уважаемый товарищ редактор!
Вы, конечно, не поинтересовались, почему уволился мой муж, слишком маленький для Вас человек, но я хочу, чтобы Вы знали: виноваты вы оба. И еще неиз- вестно, кто больше.
Дело в том, что мой муж, где бы ни работал, отовсюду тащил, и не сосчитать, сколько раз я подыскивала ему такую работу, где тащить нечего, но он все равно находил что. Вот почему я с особой надеждой запихнула его в прошлом году к Вам в редакцию. Казалось бы, что у вас можно вынести, кроме высокохудожественных впечатлений? Но не таков мой чертов несун! И недели не прошло, как он принес домой строчку из стихотворения поэта М. Поверьте, я его всегда ругаю, даже если приносит полезную вещь, а тут просто взбеленилась. Ведь для чего может пригодиться строчка из стихотворения в обычной современной квартире? Правда, звучит она красиво, но, как говорится, борща из нее не сваришь. Я велела ему немедленно отнести ее обратно, полагая, что для автора его вещь без этой строки безнадежно испорчена. Но мужу не хотелось нести обратно, и он все тянул и тянул. Каково же было мое удивление, когда я прочитала эти стихи в Вашем журнале: их так и напечатали без строчки, которую вынес мой муж!
Этим Вы его очень приободрили. Он сказал: «У них этого добра — мешками. От них не убудет». И теперь у нас всюду валяются и строчки, и четверостишия, и куски из поэм, а Вы по-прежнему печатаете и не замечаете. А муж из этого добра монтирует новые стихотворения и рассылает в другие редакции, несколько штук уже напечатаны. Аппетиты его растут не по дням, а по часам. Уважаемый редактор, неужели Вы не видите, что роман писателя Н. «Глубокий прорыв» Вы печатаете сразу со второй части?! Понятно, что первая вынесена моим мужем и лежит у нас. Но если бы — лежала! Муж режет ее на куски и рассылает под видом рассказов, уже из трех редакций получены хорошие отзывы. А со стихами он до того обнаглел, что одно послал к Вам же под псевдонимом, и оно напечатано в том же номере, что и «Глубокий прорыв»! Последней каплей стало сообщение мужа, что его, возможно, скоро примут в писатели. Тут я сказала: «Хватит!» — и велела ему уволиться. Сейчас подыскала для него оригинальное местечко: тоже сторожем, но в змеиный питомник. Как говорится, посмотрим, что принесет.
Уважаемый редактор! Теперь судьба Вашего журнала меня не касается, но считаю своим долгом предупредить. Дело в том, что в «стихотворении» моего мужа, напечатанном в Вашем журнале, не хватает двух строк в начале и четырех в конце! Надеюсь, Вы понимаете, что это означает: у Вас в редакции появился еще один несун. Боюсь за Ваш коллектив, он может весь покатиться по этой наклонной плоскости.
На этом заканчиваю. Возвращаю Вам куски из первой части «Глубокого прорыва», которые муж не успел разослать, а также ту самую, впервые вынесенную им строчку поэта М., хоть и жаль с ней расставаться, очень красивая:
Румяной зарею покрылся восток...
И где он только взял такой чудесный образ?»
— Минутку внимания! — громко произнес Ленский.
Дирижер в ужасе выронил палочку — и оркестр умолк.
Публика оживилась.
— Извините, товарищи, что останавливаю спектакль на самом интересном месте,— взволнованно продолжал Ленский. Он стащил с головы парик и нервно перебирал витые кудельки.— Но я хотел бы задать всем присутствующим один вопрос. Вот вы, уважаемая публика, сидите здесь, такие нарядные, конфетки жуете. И вы, в оркестре, пилите на своих скрипочках, мурлыкаете на своих гобоях. И вы, товарищ дирижер, машете себе палочкой, а там хоть трава не расти. И все вы вместе делаете вид, что ничего особенного не происходит. А между тем сейчас выйдет Онегин и у вас на глазах, с вашего, можно сказать, молчаливого согласия, застрелит меня в расцвете лет. Вот, пожалуйста. Вот он, вышел. Обратите внимание, целится. Я давно обо всем этом думаю и сегодня решил высказаться откровенно, далее терпеть просто не могу. Я так формулирую: почему он меня, а не я его? Чем я хуже? Чем?
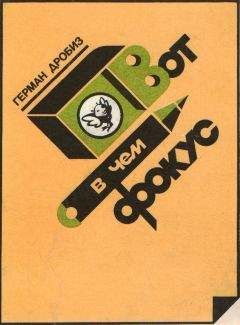



![Светлана Чистякова - Наследники Падших Книга вторая Трудно признать [CИ]](https://cdn.my-library.info/books/16018/16018.jpg)