Но тут во мне просыпается редактор. «Позвольте,— напомнит внимательный читатель,— но вы собирались рассказывать только про зверей». Да-да, помню, но дело в том, что редактор, который во мне просыпается,— это зверь. «Попр-ррошу без недоговоренностей!» — рычит он. Ясно, что рассказ придется писать до настоящего конца.
С тяжелым вздохом просыпается верблюд, и мы начинаем. Мы честно трудимся часа полтора. Мы, словно пустыню, пересекаем просторы воображения в поисках живительного источника образов и мыслей. Несколько раз настигаем миражи, но вот, кажется, впереди, без всякого обмана, вырастает желанный оазис... И тут раздается телефонный звонок. Беру трубку. Слышу голос. При первых его звуках во мне просыпается попугай.
«Привет!» — «Привет».— «Дела идут?» — «Идут».— «Контора пишет?» — «Пишет».— «А касса деньги выдает? Старик, ты меня, конечно, узнал?» — «Узнал».— «Тогда как насчет десятки до понедельника?»
Мои трансформации не перестают изумлять меня самого: в считанные доли секунды попугай засыпает, а вместо него просыпается рыба! Какой породы, не знаю, но рыба настоящая — молчит.
«Что скажешь, старичок?»
Молчит рыбешка, старается.
«Значит, договорились?»
«Договорились».
Кто бы это мог сказать: «Договорились»? Только не я. Мне не хочется давать ему десятку до понедельника, потому что кроме ближайшего понедельника есть еще следующий понедельник, а также огромное количество понедельников в ближайшие годы, и обладатель голоса широко пользуется этим любопытным свойством календаря... Кто же это мог сказать? Не иначе как рыба, проснувшаяся во мне, принадлежит к неизвестному науке виду говорящих.
Когда я возвращаюсь к рабочему столу, оказывается, что верблюд давно уже улегся и храпит. Во мне просыпается бегемот. Он тупо смотрит в написанное. Мой бегемот абсолютно равнодушен ко всему, что можно хотя бы отдаленно считать художественным творчеством. Меньше всего его волнует моя работа. Он находит мои рассказы бездарными.
Бегемот утыкается узким лбом в машинку и угрюмо сопит. Минута... Другая... Вдруг с дикими воплями просыпается носорог. С грохотом опрокидывает на машинку футляр и яростно увлекает меня в прихожую. Ловко действуя рогом, он накидывает на меня пальто, кепку, шарф и вышвыривает меня на улицу. Утомившись от этого взрыва, он быстро засыпает.
Иду по улице в неизвестном направлении. Просыпается бродячая собака. Таскаемся по закоулкам, проходным дворам.
Просыпается кошка. Садимся в малолюдном сквере на скамейку, греемся на солнышке. Начинаем мурлыкать.
Просыпается ласточка. Предлагает слетать в парк, попить пива. (Моя ласточка пьет пиво.) Сажусь в троллейбус, еду в парк. В троллейбусе давка, во многих пассажирах проснулись их носороги. Мой тоже просыпается. Его темперамент помогает мне вылезти на нужной остановке.
В парке во мне снова просыпается волк с присущим ему аппетитом. Бродим от павильона к павильону, жуем бутерброды, глотаем пирожки. Пива нет, пьем сухое иино. (Мой волк пьет сухое вино.)
Просыпается бабочка. Порхаем по аллеям, задираем встречных стрекоз. К вечеру бабочка устало складывает крылья и засыпает в траве. Сажусь рядом. Тишина. Сумерки. Парк пустеет. Нежно шумят деревья... Просыпается верблюд, и мы тащимся через весь город, обратно к машинке.
Поздно ночью наступает момент, когда клавиатура машинки начинает двоиться в моих глазах, и я понимаю, что дело идет к концу. Еще усилие, и вот верблюд роняет горбы и обессиленно падает. Я и сам готов уснуть, но не успеваю: просыпается обезьяна. Она корчит гримасы и пританцовывает. Она говорит: «Вот видишь — недь можешь, если постараешься. Прелестный, должна тебе сказать, получился рассказ».
Я не удивляюсь ни тому, что она умеет разговаривать, ни тому, что она говорит умно и справедливо. В моей обезьяне, я это замечаю не впервые, изредка просыпается человек.
Он выходит. Он вышел. Одет во все чистое — как перед решающим сражением. Фрак отутюжен, сорочка сверкает, бабочка безупречна. Чувствуется: человек на многое решился. Мы подбадриваем его аплодисментами. Он кланяется, после чего поворачивается к нам спиной. Mi.i не в обиде: сегодня он хочет говорить не с нами, а с ними. Ему есть что сказать им: накипело, накопилось за долгие годы, требует выхода.
Их много. В руках разное. Скрипки, трубы, флейты, кларнеты, виолончели. Одна женщина даже приволокла арфу. И все они смотрят на него. Изображают внимание. Якобы желание выслушать правду, какой бы горькой она ни была. Но это притворство! Едва он взмахивает рукой, как бы говоря: «Товарищи! Давно хочу вам сказать...» — как все эти люди разом ударяют или принимаются дуть в специально принесенные инструменты. Грохот невообразимый, жуткий вой. Напрасно он размахивает руками, умоляя выслушать. Чем выразительнее его жесты, тем громче в ответ ухают трубы. Нахально пиликают скрипки. Бренчит арфа. Гудит контрабас. Нет, они не дадут ему сказать ни слова, как не дали вчера, как не давали в предыдущие их встречи. Больно следить за этой неравной борьбой. И — верх наглости! В тот самый момент, когда он, истратив все силы и разуверившись в том, что его расслышат, в полном отчаянии резко взмахивает рукой,— все смолкает. Полная тишина. Но у него уже нет сил говорить. Пот катится градом по его лицу. Волосы разметаны бурей. Бабочка съехала на спину. Шатаясь, он уходит.
Мы бешено аплодируем ему — за героическую попытку достучаться до этих людей. Пусть она не удалась, но он был так неистов в своем стремлении сказать им все, что он о них думает!
Мы вызываем его. Он выходит. Кланяется. Сконфуженно улыбается. Да, он снова проиграл. Но дух его не сломлен. Завтра он снова выйдет к этим людям и снова взмахнет руками, призывая выслушать его. Я верю: рано или поздно в ответ на его взмах не раздастся ни одного звука. И тогда мы услышим, что он хотел им сказать. Убежден: это что-то очень, очень важное.
Утром он встает с головной болью. За окном — метель.
Жизнь неприятна.
Не видно внимания со стороны жены.
Сын отказывается идти в школу, откуда он каждый день приносит новую двойку.
В булочной нет его любимого батона за двадцать пять копеек.
В овощном чудовищно груба продавщица.
Не приносят радости газеты. В Якутске продолжается травля честного охотинспектора. Повсюду бешено сопротивляются живительным переменам бюрократы. Иран и Ирак продолжают бессмысленную братоубийственную войну.
В середине дня неожиданно отключают холодную воду. Он дважды идет на колонку с трехлитровой банкой и авоське. Всюду она тротуарах под тонким покровом снега — лед. Колонка стоит в ледяном кратере. Профессия дворника еще не изобретена.
Сын возвращается с очередной двойкой, в разорванной шапке, со свежим синяком под глазом.
Приходит с работы жена, как всегда, забывая, что в дом можно войти и с улыбкой.
Автобуса нет двадцать пять минут, хотя на табличке, тренькающей на ветру, можно прочесть: «Интервал движения: пять — семь минут».
Люди в автобусе спрессованы, как мороженые креветки.
Плющат и его.
На выходе его толкают в спину, и он долго куда-то летит и обо что-то ушибается.
И он не выдерживает.
Хотя на него к этому времени смотрят уже тысячи глаз. Но ему не до условностей. В нем все кипит, бурлит. Все возмущено. Ему надо разрядиться. Он хватает, что попало под руку. Как правило, это палка с набалдашником. Он хватает ее и принимается лупить по всему, что его окружает. Он лупит и так и сяк, и разящим наотмашь ударом, и мелкой рассыпчатой дробью. И каждый удар отдается у него в голове: бум! бум! тах-тах-тах! тр-р-р-р... чунг-чунг! Дзеньк-дзеньк! Бам! Бам!..
А потом он в изнеможении падает.
А мы аплодируем. Мы долго и благодарно аплодируем, а потом расходимся и говорим: приличный коллектив. И саксофон неплох, и бас-гитара. Но ударник — выше всяких похвал!
Утром он встает с головной болью..
Интервью руководителя рок-ансамбля «Троллейбус»
— Почему ваш ансамбль называется «Троллейбус»?
— Потому что, когда мы собрались, ансамбли «Метро», «Такси», «Трамвай» и «Автобус» уже существовали. Это во-первых. Во-вторых, мы все с усами, и троллейбус тоже. И в-третьих, и троллейбус, и наш ансамбль работают на электричестве. Но у нас, конечно, выходная мощность гораздо выше. Кстати, могу рассказать любопытный случай. В одном Дворце спорта, когда подключили нас, отключилось освещение. Я предложил зрителям проголосовать: что они предпочитают. Половина проголосовала за то, чтобы слышать нас, но не видеть, а половина — за то, чтобы видеть, но не слышать. И это понятно: у нас есть не только что послушать, но и на что посмотреть.
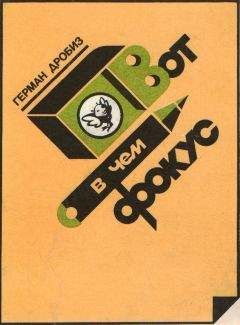



![Светлана Чистякова - Наследники Падших Книга вторая Трудно признать [CИ]](https://cdn.my-library.info/books/16018/16018.jpg)