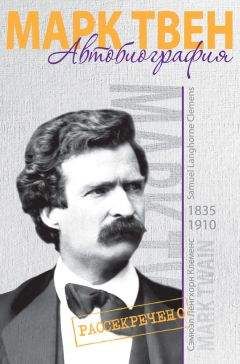Ознакомительная версия.
Мы изучили всю имеющуюся литературу по цианистому калию. Вопреки утверждениям авторов детективных романов, цианистый калий не пахнет миндалем, он вообще не имеет запаха. И смерть не наступает внезапно. Человек действительно быстро теряет сознание, но умирает только через несколько минут, в это время его можно спасти. Большое количество пищи в желудке замедляет действие цианидов, а сахар их нейтрализует. Поэтому-то и не смогли отравить Распутина: ему сыпали цианистый калий на пирожное. Сладкое в день смерти Толя не ел. И большого количества пищи не принимал. Наконец в одной немецкой работе мы нашли разъяснение. Оказывается, очень большое количество алкоголя замедляет действие цианида и изменяет внешнюю картину смерти.
Стало ясно, что яд он принял днем, когда вместе с Колей Шишкиным отмечал свой день рождения. Сам или кто-то подсыпал яд в его бокал. В то, что сам, мы не верили. Значит, кто-то другой. Тогда кто? Только один вариант. Яд в бокал мог подсыпать Коля Шишкин. А вот у того причины были: 36 лет, трое детей, жена не работает. Увольнение из армии было бы для него катастрофой. Он мог решить, что если один участник пьянки покончит жизнь самоубийством из-за боязни увольнения, то другого не уволят.
Тогда стала понятной история с пробиркой. Ее при трупе не обнаружили, потому что ее там не было. Но на следующий день, когда Коля поехал опознавать труп, он вполне мог подсунуть пробирку в Толин карман.
От потрясения Коля так и не оправился. Последнее, что я о нем слышал: через пять лет после инцидента он продолжал лежать в психбольнице.
375. Облава
— Ваши документы.
В конце четвертого года я решил уйти из академии. И подумал, что это можно сделать самым простым образом — провалив экзамены. Но оказалось, все не так-то просто. Начальство решило, что если слушатель, до этого имевший практически все отлично, получает две двойки, то это не «неуспеваемость», а «недисциплинированность». А раз это «недисциплинированность», то он должен отправиться рядовым в действующую армию без зачета четырех лет академии. Служить семь лет в армии мне не улыбалось, и я решил исправить двойки.
Шел август, и я начал готовиться к переэкзаменовкам.
В это время в Москве открылся Всемирный фестиваль молодежи и студентов, Москву заполонили иностранцы, повсюду шли концерты. А я вынужден был сидеть в академии. Курс, который мне следовало сдавать, был секретным, и выносить тетрадь с записями лекций запрещалось, на ней стояли печать и штамп «секретно».
Но я тетрадь вынес. Однажды по дороге из дома на дачу встретил своего товарища по академии, и мы вместе отправились в гостиницу, где размещались иностранцы. Там были танцы, играла музыка. Вдруг мы с приятелем вместе с другими праздношатающимися оказались окруженными дружинниками и милицией. Началась проверка документов. Иностранцев отпускали, а своих препровождали в милицейскую машину.
Нахождение слушателя академии среди иностранцев само по себе являлось криминалом, достаточным для гауптвахты. А тут еще секретная тетрадка, которую никуда не выбросишь, — на ней моя фамилия.
— Ваши документы.
376. Как я стал официальным поэтом
Большую часть времени вне академии я разгуливал в штатском, что, естественно, было запрещено. Начальство смотрело на это сквозь пальцы, однако всегда оставался риск попасть в комендатуру. Достаточно было угодить в милицию, там пришлось бы признаться, что служишь в армии, ибо ничего, кроме удостоверения слушателя академии, у меня не было. А дальше милиционеры, как и положено, должны были передать меня в комендатуру.
Поэтому мне позарез нужен был какой-нибудь «гражданский» документ. И я придумал выход. Я заблаговременно подготовил «сборник стихов», а точнее, 7-10 стихотворений, представил его на суд вполне профессионально подготовленных людей, которые рекомендовали меня в Литобъединение при «Московском комсомольце».
Мне трудно вспомнить, когда еще я волновался перед экзаменами так, как тогда перед комиссией, ведающей приемом в Литературное объединение.
— Мы знакомы с вашим сборником. Прочтите что-нибудь, не вошедшее в него.
Из пяти кандидатов приняли тогда только двоих — меня и моего приятеля, в будущем замечательного поэта-песенника Игоря Шаферана (к моему великому сожалению, недавно скончавшегося).
Через неделю мне вручили солидное пухлое удостоверение (оно хранится у меня поныне), где на основной корке было вытеснено «Московский комсомолец», а внутри написаны имя, отчество, фамилия и вклеена фотография. Из того «цикла стихов», что обсуждали на секции, сейчас я не помню ни строчки. Помню только, что это были стихи о моей вымышленной поездке в Албанию. Вскоре после этих событий Албания перешла в стан врагов. Поэтому напечатать цикл стало невозможно, и все стихотворения я просто-напросто выкинул.
Но удостоверение мне пригодилось. И очень…
377. Официальный корреспондент
— Ваши документы.
Проверка документов. И я, слушатель закрытой академии с тетрадкой, где на первой странице штамп «секретно», среди иностранцев.
— Ваши документы.
Я предъявляю удостоверение «Московского комсомольца»:
— Корреспондент.
И меня без слов отпускают. Позже я узнал, что моего товарища отправили в комендатуру, и он получил 20 суток гауптвахты. И это без тетрадки!
378. Высшая справедливость
В начале четвертого курса двенадцати любимцам начальства, отличникам политической, но далеко не учебной подготовки были присвоены офицерские звания, а остальным четырнадцати, мне в том числе, из воспитательных соображений задержали присвоение на 4 месяца. Но тут вышло новое распоряжение, согласно которому офицерское звание нам светило только через два года, и вдобавок ко всему нас перевели на казарменное положение. Ребятам, успевшим получить офицерское звание, а с ним и существенную прибавку к жалованию, было стыдно смотреть в глаза своим марширующим строем товарищам.
Однажды я, к тому времени правдой и неправдой демобилизовавшийся и надолго затаивший злобу на власть предержащих, стоял с одним таким офицером, и мимо нас прогнали строем моих бывших сокурсников. Он смотрел в землю, тяжело дышал, у него тряслись губы. Ему было стыдно, очень стыдно.
И вот что интересно. Недавно я звонил одному из моих бывших сокурсников, и оказалось, что ни один из тех, кто получил тогда офицерское звание, не дожил до 65 лет: сердце и прочее… Ни один. А остальным, тем, которые тогда маршировали в строю, уже 75, и пока все живы-здоровы.
Просто наваждение какое-то!
379. Судьба барабанщика
Одной истории, в которой я замешан не был, мне не простили.
Дело было так. Есть такое вещество — йодистый азот. Если капнуть его на бумажку и бумажку высушить, то при прикосновении к ней раздается «неприличный» звук. Вооружившись пробирками с сероводородом и бумажками с йодистым азотом, несколько наших ребят отправились в кинотеатр «Родина», что на Семеновской, тогда еще Сталинской, смотреть фильм «Судьба барабанщика». Перед тем как рассесться в разных концах зала, они разбросали бумажки с йодистым азотом в проходе. Потом в тот момент, когда героя приходят арестовывать, они вынули пробирки с сероводородом и вылили содержимое на пол. Зал стал быстро наполняться характерным запахом. Первой не выдержала какая-то солидная дама и поспешила к выходу. Но стоило ей сделать несколько шагов, как из-под нее раздался характерный звук.
— Так это она, — громко сказал кто-то.
Дама ускорила шаг. Звуки раздались еще. Она побежала. Звуки следовали один за другим.
— Ишь ты дает! — реагировала публика. — Гороху, что ли, наелась.
Потом поднялся мужчина, и с ним повторилось то же самое.
— Так она здесь не одна такая! — хохотал зал.
Зажегся свет. Фильм прекратили. Потом зал проветривали несколько дней. Подозрение пало на частых гостей кинотеатра — слушателей нашей академии.
И хотя меня среди участников этой затеи не было и не я руководил «операцией», начальство было уверено, что эта проказа — моих рук дело.
И меня отправили служить в действующую армию в чине рядового, не засчитав четыре года академии за срок службы.
380. Страшный конец
Тем, что я оказался в действующей армии, я обязан начальнику факультета генералу Сироженко. В лицо мне он говорил одно, а написал в рапорте: «неуспеваемость за счет плохой дисциплины», что означало «не засчитать годы в академии за службу в армии». Я затаил на него злобу. Но что может солдат против генерала? Однако отомщен я все-таки был.
Конец у генерала был плохой. Очень плохой. Он вышел в отставку и решил изложить историю академии… в стихах. Он ходил по издательствам, писал письма, жалобы. И в конце концов оказался в психушке.
Один мой знакомый поэт (когда-то мы с ним вместе работали) говорил мне, что от сочинительства плохих стихов до психушки — один шаг. Сам он — вполне приличный поэт, стихи его печатались… но кончил он в психушке.
Ознакомительная версия.