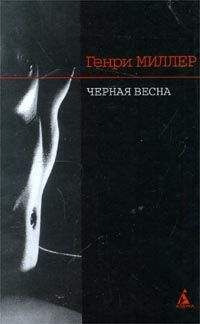Кроме прочего, теперь, по прошествии времени, их с Бодькой подозрения уже казались и ему самому нелепыми и надуманными, поскольку Женя точно вела себя так, будто бы Ромкины предупреждения совершенно не имели смысла.
Это странно – быть самым влиятельным человеком в городе, но при этом не иметь возможности увидеть всю картину целиком, а по кускам та выглядела чем-то вроде полотна позднего Пикассо. Вот и приходилось довольствоваться... запросом из полиции.
Словом, Алене повезло. Филиппычу – вряд ли. Это же на Филиппыча уголовщину завели за попытку убийства, а не на нее.
Поэтому она сейчас хлопала ресницами и глядела на обожаемого шефа.
Обожаемый шеф вернул на нос очки и ознакамливался с предъявленными ему документами, включая заявление по собственному желанию, которое Тихонова вынудили написать, и все сильнее прозревал.
- Погодите-ка! – выдал он минут через пять. – Тут же речь только об угрозах! Никто, получается, не пострадал?
- Ну получается! Но сам факт! – печально вздохнула Алена. – Говорят, и свидетели инцидента есть.
- Свидетели – это плохо. Абсолютно лишние люди. Надо бы с ними поработать...
- Мне передать дело Арсену Борисовичу?
- Передайте, а этого удальца, будьте любезны, отправьте ко мне.
- А приказ?
- А приказ, Алёнушка... в печку. Нет у нас такого приказа.
- Как скажете, Роман Романович, - закивала Алёнушка и ломанулась выполнять поручения начальства, весьма довольная тем, что этот робот хотя бы немного оживился. А потом ей прилетело из кабинета: «И кофе сварите! Покрепче! Мне и этому балбесу!» - и она поняла, что радость ее была преждевременной. Посадит себе ее придурок сердце. Точно посадит. А все змея с Молодежной виновата!
Еще спустя двадцать минут господин Моджеевский и две чашки кофе встречали прораба Тихонова в начальственном кабинете. Без улыбки и по всей строгости.
- Ну и как это понимать, Евгений Филиппович?! – рявкнул Роман, из-подо лба глядя на собственного лучшего работника.
- А что тут понимать, - кисло промямлил прораб, усаживаясь на стуле и не глядя на это самое рявкающее начальство. – Все беды от баб, - Филиппыч замялся ненадолго и еще более кисло добавил: - И без них никуда.
Если бы в это время он обратил внимание на физиономию Моджеевского, то имел бы удовольствие наблюдать, как того перекосило. Но с удовольствием не сложилось. И едва справившись с собой, Ромка уточнил:
- Ты ж, вроде, развелся сто лет назад?
- Та-а-а… - Филиппыч махнул рукой и вздохнул. – Встретил я тут… в особняке этом Гунинском. Еще когда забор двигали…
Моджеевского перекосило еще сильнее. Прямо даже передернуло.
- Понима-аю, - протянул он и кивнул для пущей убедительности. – И это ты ее того... этого? Довела?
- Вы что! – вскинулся Тихонов. – Роман Романыч! Бабы – дуры, конечно, но это ж последнее дело! Там другое… Наговорил я всякого в сердцах… Просто, Клара котов любит, а им не нравится. Эта, из ЖЭКа которая, «санитария» орет. А другая стала на мужа Клариного намекать… Кудахчут и кудахчут, ну я и не сдержался. Ай…
Прораб снова махнул рукой и, замолчав, уставился в пол.
- А твоя – это Клара? – спросил Моджеевский.
- Не моя она, - горько проговорил Филиппыч. – Муж у нее есть.
Муж... муж – это плохо. Наличие мужа игнорировать – в некотором роде проблема. Сейчас Роман подобные проблемы очень хорошо понимал. Собственно, и сам страдал почти по тому же поводу. А ведь сдержись он тогда, может быть, сейчас сам был бы... мужем. Черт его знает, как жизнь бы сложилась.
- Ты что же, Филиппыч, свободную себе найти не мог? Нахрена в чужую семью лезть! – постаравшись придать своему голосу хотя бы немного строгости, укоризненно покачал головой большой человек Роман Романович.
- Да если б там семья была! Я б может и не лез. А так… люблю я ее…
Знакомо.
Любит.
- А вот она? – пробурчал о своем Ромка. – Она – любит? Или только видимость одна?
- Ну так! – довольно расплылся в улыбке Тихонов. – Конечно! Там знаете какой характер! Не любила б – не подпустила б! Таких бы собак на меня спустила. Она умеет!
- Да ладно тебе... умеет она! – вскочил Моджеевский со стула и поплелся к окну, за которым продолжалась радостная капель. – Ты, Филиппыч, мужик неглупый, с руками из правильного места. Зарабатываешь хорошо. Вот и вцепилась. Был бы нужен по-настоящему, уже б от мужа ушла. А так обоих при себе держит.
- Не такая она! – решительно заявил прораб – А алкаша своего она жалеет, четверть века не выкинешь на свалку.
- А тебя – не жалеет? Ты, вон, под суд из-за нее угодить рискуешь!
- Да разберусь я с теми курицами, - отмахнулся Тихонов. – То полбеды. Вот Клару уговорить Бухана бросить…
- Реально попадалово... - согласился Моджеевский с чем-то своим, снова задумавшись. – Ты, может, ее свози куда? Побудете вместе, а там она и не захочет к своему возвращаться?
Филиппыч уныло кивнул.
- Дела твои я решу, ты сильно не дергайся, - продолжил выговаривать ему Моджеевский. – И в Гунинском особняке старайся не отсвечивать. А твое заявление по собственному... не было его. Работай дальше, понял?
- Спасибо, Роман Романович, - снова кивнул прораб. – Но я того… Клару не брошу. И если надо – увольняйте!
- Слушай, Евгений! – Ромка повернулся к нему и снял очки. – Я же сказал – не отсвечивай. Где ты тут про Клару расслышал? Просто будь осторожнее, пока делопроизводство прикроют. Кто я такой... чтобы мешать великой любви?
Но если любовь великая, то разве же ей помешаешь?
Видимо, Роман Романович это делал как-то неправильно. В смысле – любил. Иначе как объяснить тот факт, что он неизменно терял тех, кого любит. Единственное настоящее, что у него еще оставалось, – это дети. Да и те из-за развода отдалились и наверстывать было сложно.
За прошедшее время случались моменты, когда он всерьез думал о том, что надо бы сосредоточиться только на них. На Бодьке с Танькой. Ну и на работе. И обычно, когда Моджеевский принимал те или иные решения, его уже трудно было сбить с намеченного пути. Тем более странной выходила текущая ситуация. Он, вроде бы, решил. Он, вроде бы, пытался. Но не получалось.
Потому что даже Женино заявление о замужестве не трогало его в достаточной степени, чтобы забыть о ней навсегда. Она так и не сказала, ни единого разу не сказала ему, любила ли тогда. И как относится теперь. А ведь он спросил ее прямым текстом. Спросил то, что надо было уже давно. Вместо всего того, что наворотил сгоряча.
Одно Роману было ясно – что-то он упускает. Что-то важное. И именно оно, это важное, превращало для него представления о Жене, о жизни, о себе самом в ту самую картину престарелого Пикассо, на которой так и тянет собрать все заново, в правильном порядке. Исправить. Но какой дурак полезет исправлять Пикассо?
- Не такая она! – передразнил Моджеевский Филиппыча, глядя на собственное отражение на стекле, когда уже начинало смеркаться. Жека вот тоже не такая. Знать бы еще – какая. Потому что он совершенно не понимал. В какой момент они съехали на эти параллельные прямые, которые не пересекаются? Или и были всегда параллельными, а он и не замечал, влюбившись как мальчишка. Говорят, нет ничего хуже первой любви. Яркой, бурной, до раздрая. И умирает она болезненно и тяжело. Чепуху говорят. Ромка свою первую любовь и помнил-то с трудом. Ну была девочка, косички светлые. Целовались пару раз, она потом уехала из города, а он для порядку пару недель пострадал. Все. С Ниной у них были семья и слитая, спаянная в детях кровеносная система, от такого легко не откажешься. Как там Филиппыч сказал? Четверть века на свалку не выкинешь? Ну, у них поменьше, и то... болело сильно.
Но то, что творилось с Моджеевским теперь – это ж ни на какую голову не натянешь! Оказывается, когда взрослеешь, любовь отпускать тяжелее. Последнюю любовь – отпускать тяжелее всего, а Ромка отдавал себе отчет, что вряд ли еще когда полюбит.