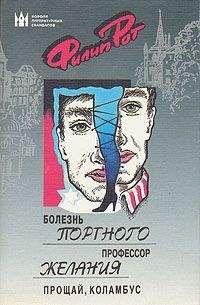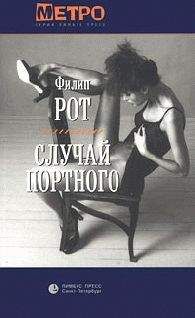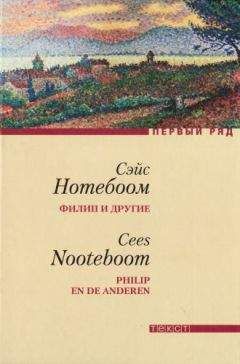— Ну как? — спрашивает отец. Мы идем рядышком — «спортивным шагом» — вдоль серебристого озера. — Дыши глубже. Вдыхай хвойный аромат полной грудью. Это самый лучший воздух на земном шаре — хороший зимний хвойный воздух.
Хороший зимний хвойный воздух — еще один родитель-поэт! Я не испытал бы подобного трепета, даже если бы родился сыном Вордсворта!..
Летом папа остается в городе, а мы втроем отправляемся на побережье, где на месяц снимаем меблированную комнату. Отец присоединится к нам в последние две недели, когда начнется его отпуск… но в это время Джерси-Сити так распухает от влажности, и на город с близлежащих болот обрушиваются такие полчища комаров, что папа после работы трясется по старому разбитому шоссе шестьдесят пять миль — только ради того, чтобы провести ночь с нами в обдуваемой бризом комнате на Брэдли-Бич.
Он приезжает, когда мы уже поужинали. Впрочем, папа ужинать не торопится. Он снимает с себя потемневшую от пота одежду, в которой он целый день кружил по городу, собирая взносы, и надевает плавательный костюм. Я беру полотенце и иду вслед за отцом, который шлепает к пляжу в туфлях с развязанными шнурками. На мне чистенькие шорты и футболка без единого пятнышка, я смыл под душем морскую соль, и мои волосы — мои мальчишечьи кучеряшки, поддающиеся еще гребешку — аккуратно расчесаны на пробор. Вдоль дощатого настила тянутся ржавые железные поручни. Я усаживаюсь на них и смотрю вниз. Там мой папа пересекает в своих туфлях с развязанными шнурками пустынный пляж. Аккуратно расстилает полотенце, кладет часы в правую туфлю, очки — в левую… И вот он готов к погружению в морскую пучину. До сегодняшнего дня я вхожу в воду так, как меня учил отец: сначала погружаю в воду кисти рук, затем смачиваю подмышки, плескаю себе в лицо, осторожно — очень-очень осторожно — выливаю пригоршню воды на затылок… Такой способ действует очень освежающе и одновременно позволяет избежать шокового воздействия холодной воды на организм. Освеженный, избежавший шока, отец оборачивается, комически машет рукой в ту сторону, где, по его мнению, находится его сын, и плюхается спиной в море. Лежит на спине, раскинув руки. Лежит неподвижно — он работает, он вкалывает изо всех сил, и все ради меня, — затем переворачивается, наконец, на живот, шлепает несколько раз руками по воде, нащупывает дно и медленно бредет к берегу. Его короткое мокрое туловище поблескивает под последними лучами солнца, которое садится за горизонт у меня за спиной, в задыхающемся от влажного зноя Нью-Джерси, откуда меня так удачно вывезли.
И таких воспоминаний у меня много, доктор. Очень много. Это я вам про своих родителей рассказываю.
emp
Но… но… но… — дайте-ка я возьму себя в руки — вот уже новое видение. Папа выходит из ванной, яростно массируя затылок и морщась от изжоги.
— Ну, что у вас тут за срочное дело, о котором вам неймется поговорить?
— Нет, ничего… — отвечает мама. — Мы уже обо всем договорились.
Папа укоризненно смотрит на меня. Он живет ради меня, и я это знаю.
— Что он натворил?
— Что было — то было. Мы уже обо всем договорились, слава Богу, — говорит мама. — Сам-то ты как? Сходил?
— Конечно, не сходил.
— Джек, что с тобой будет — с твоими кишками?
— Думаю, они окаменеют — вот что с ними будет.
— Это потому, что ты слишком быстро кушаешь.
— Я не кушаю быстро.
— А как же ты кушаешь — медленно, что ли?
— Я ем нормально.
— Ты ешь как свинья. Кому-то все равно надо сказать тебе об этом.
— Ты иногда выражаешься весьма изысканно. Не замечала?
— Я всего лишь говорю правду, — парирует мама. — Я целый день суечусь на кухне, а ты вечно ешь так, словно спешишь на пожар. А этот — этот решил, что я готовлю недостаточно вкусно. Он предпочитает травиться и путать меня до смерти.
Что он натворил?
— Мне не хочется огорчать тебя, — отвечает мама. — Поэтому давай просто забудем о том, что произошло.
Но мама не может забыть, и потому теперь уже она начинает плакать. Видите ли, ее тоже вряд ли можно назвать самым счастливым человеком в мире. Когда-то мама была стройной девчонкой, которую мальчишки-старшеклассники дразнили «рыжей». В десятилетнем возрасте я просто с ума сходил — так мне нравился мамин школьный альбом. Я хранил его в одном ящике стола вместе с другим сокровищем — коллекцией марок.
Софи Гинская, по прозванью «рыжая»,
Далеко она пойдет, умница бесстыжая.
Это про мою маму!
Кроме того, мама работала в свое время секретаршей у футбольного тренера. По нынешним временам не ахти какая должность, но для молоденькой девушки в годы первой мировой войны это был такой пост, ради которого стоило остаться в Джерси-Сити. Так, во всяком случае, казалось мне, когда я перелистывал страницы маминого школьного альбома, а она, показывая на фотографию темноволосого парня, который за ней ухаживал в юности, говорила (цитирую дословно): «Теперь он крупнейший производитель горчицы в Нью-Йорке». «И я могла выйти замуж за него, а не за папу», — признавалась мне мама по секрету — и не раз. Иногда я воображал, как бы сложилась мамина и моя жизнь, если бы она действительно стала супругой того парня. Как правило, подобные мысли приходили мне в голову, когда папа вел нас обедать в деликатесную на углу. И осматривался и думал про себя: «Мы могли бы быть производителями всей этой горчицы». Похоже, мама моя в эти минуты думала о том же.
— Он кушает хрустящую картошку, — всхлипывает мама и бессильно опускается на стул, чтобы раз и навсегда Выплакать Всю Свою Душу. — Они вместе с Мелвином Вейнером после школы объедаются хрустящим картофелем. Джек, скажи ему… я всего лишь мать… Скажи ему, чем это может закончиться. Алекс, — говорит она пылко, внимательно наблюдая за тем, как я бочком пытаюсь улизнуть из кухни, — Алекс, понос — это только начало. А наешь, чем это кончается? С твоим чувствительным желудком? Знаешь, чем это закончится? Ты будешь ходить с пластмассовым судном, привязанным к твоей попе!
Кому за всю историю человечества удавалось устоять перед слезами женщины?! Моему отцу. Я — второй.
— Слышал, что мама сказала? — поворачивается ко мне отец. — Не ешь после школы хрустящий картофель.
— И вообще никогда его не ешь, — умоляет мама.
— И вообще никогда его не ешь, — повторяет отец.
— И гамбургеры не кушай, — всхлипывает мама.
— И гамбургеры не кушай, — говорит папа.
— Гамбургеры, — говорит мама с омерзением, словно произносит вслух имя Гитлера, — они кладут в них Бог знает что — а он их кушает. Джек, пусть он поклянется не есть эту гадость, пока не поздно.
— Клянусь! — ору я. — Клянусь!
И опрометью бросаюсь из кухни. Куда? Ну куда же еще…
Расстегиваю штаны, яростно хватаюсь за член, высвобождаю его из трусов…
— Алекс, не спускай за собой воду! — раздается из-за двери мамин голос. — Алекс, ты слышишь меня? Я должна посмотреть, что там в унитазе!
Доктор, вы понимаете, в каком я был положении? Мой член являлся в доме тем единственным предметом, о котором я мог сказать, что он принадлежит мне. Поглядели бы вы на мою мать во время эпидемии полиомиелита! Ей-Богу, она была достойна какой-нибудь медали. Открой рот. Почему у тебя горло красное? У тебя болит голова, да? Почему ты это скрываешь? Ты не пойдешь ни на какой бейсбол, Алекс, пока я не увижу, что ты можешь поворачивать шею. Тебе трудно поворачивать шею? Тогда почему ты держишь ее так странно? Ты кушаешь так, будто тебя тошнит. Тебя тошнит? Но ты кушаешь так, будто тебя тошнит. Не смей пить воду из-под крана, когда будешь играть в бейсбол. Если захочешь пить — потерпи до дому. У тебя сухость в горле, да? Но я же вижу, как ты глотаешь. Вот что, мистер Джо Ди Маджио: мне кажется, что тебе лучше забыть про эту бейсбольную рукавицу и лечь в постель. Я не собираюсь отпускать тебя носиться по площадке в такую жару. С таким-то горлом. Нет-нет. Ну-ка измерь температуру. Мне не нравится, как ты хрипишь. Честно говоря, мне кажется, что ты давно уже ходишь с таким горлом и ничего мне не говоришь. Почему ты мне ничего не говоришь? Алекс, полиомиелиту нет дела до бейсбола. Стоит заболеть, и ты останешься калекой на всю жизнь! Я не хочу, чтобы ты играл в бейсбол, и это окончательно! И не надо есть гамбургеры. И майонез не надо. И печенку. И тунца. Не все так щепетильны, как твоя мать.
Ты привык жить в стерильно чистом доме. А кто знает, из каких продуктов они готовят в ресторане? Знаешь, почему твоя мать всегда садится спиной к кухне, когда мы обедаем «У Чинка»? Потому что я не хочу видеть, что там творится за моей спиной. Алекс, мой все подряд, понял? Все! Бог знает, чьи руки касались этих приборов до тебя.
Послушайте, разве я преувеличиваю, когда говорю, что остался амбулаторным больным только благодаря чуду? Истерия и предрассудки. Осторожно. Берегись. Не делай того. Не делай этого. Не нарушай закон. Какой закон? Чей закон? Да если бы они вдели кольца в носы и выкрасились в синий цвет — они больше соответствовали бы своему содержанию! Все эти запреты и заповеди — не ешь то, не ешь это… А ведь у нас и без того сумасшедшая семейка. Мои родители до сих пор смеются, вспоминая, как я, будучи еще в нежном возрасте, наблюдал в окно снежную бурю, а потом вдруг обернулся и спросил с надеждой: «Мамочка, а мы верим в зиму?» Вы понимаете, о чем я говорю? Меня воспитали зулусы и готтентоты! Когда я просто пил стакан молока, закусывая его бутербродом с салями — это воспринималось как вызов самому Господу. Вообразите же, что творилось с моим сознанием во время занятий онанизмом! Чувство вины, страх и ужас переполняли мою душу! Что в их мире не было чревато опасностью, не кишело микробами, не сопрягалось с риском? О Господи, ну где же удовольствие, вкус к жизни? Где смелость и отвага? Кто заполнил души моих родителей страхом перед жизнью? Теперь, когда отец на пенсии, у него осталась по сути одна только вещь, которой можно бояться — скоростная магистраль «Нью-Джерси».