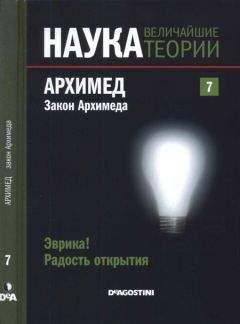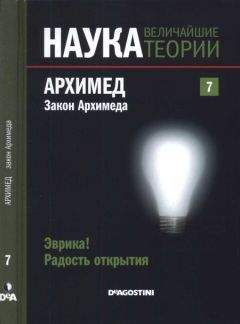Они оставят деревья, сады и дома… Они оставят землю…
Несожженную землю, которая давно превратилась бы в прах, если б не было на ней вот таких чудаков…
У вулканов много тепла, которое они спешат поскорей отдать и потому извергают его, обжигая, но не согревая…
Теплоту ведь тоже нужно уметь отдать. Чтобы благие порывы не стали стихийными бедствиями.
Когда-то Антарктида была такой же, как все, землей, теплой и открытой. Ее согревало солнце и орошали дожди, и она цвела не хуже других земель, добрая земля Антарктида. А потом…
Неизвестное тело ворвалось на Землю из космоса, огромное раскаленное тело насквозь прожгло материк и оставило в нем глубокую рану. Пятьсот километров в диаметре — такая рана вряд ли когда-нибудь зарастет.
Раны, которые не зарастают, иногда покрываются льдом. Чтобы не бросаться в глаза, чтобы не вызывать сочувствия, они покрываются льдом спокойствия, безразличия ко всему… Но они болят. Там, подо льдом, они болят, эти раны.
Может быть, они б не болели, если б не были затянуты льдом. Может быть, их исцелили бы лучи и дожди, как исцеляют они все на земле, — но не пробиться сквозь толщу льда, ни дождям, ни лучам не пробиться.
Давным-давно не цветет древняя земля Антарктида. Потому что на теле ее огромная рана, и рана эта покрыта льдом.
Раны, которые не зарастают, иногда покрываются льдом. А раны, покрытые льдом, никогда не зарастают.
Лед легче воды.
Превращение воды в лед представляет поучительный и печальный пример: как часто попытка проявить твердость, дабы придать себе вес, кончается конфузом и неудачей.
Если хочешь себя сохранить, нужно оставаться холодным. Всегда холодным. Ко всему холодным. Так рассуждают льды.
Пускай ветры и бури. Пускай полярная ночь. Ничего. Оставайся холодным. А не то…
Стоит чуть-чуть размягчиться — и тогда все, конец. В таких условиях важно быть твердым. А чтобы быть твердым, нужно оставаться холодным. Всегда холодным. Ко всему холодным. Так рассуждают льды.
И конечно, Горячий Лед слывет среди них чудаком, даже чужаком. Вроде пришельца с другой планеты. При его температуре вода превращается в пар, а он ничего, держится. Возникает законный вопрос: зачем ему это надо? Что он хочет — климат на земле изменить?
Да, от такого нужно держаться подальше. Нормальным льдам от такого нужно держаться подальше. Если они хотят себя сохранить.
И все-таки непонятно: откуда в нем эта твердость при такой высокой температуре? Это противоречит всем законам и обычаям…
Обычаям — да, но не законам. Во всяком случае, не законам физики.
По законам физики Горячий Лед возникает при высоком давлении. А высокое давление приучает сохранять твердость.
Гольфстрим, текущий с юга на север, и Гольфстрим, текущий с севера на юг, — это, по сути, два разных Гольфстрима.
Один из них, молодой и горячий, мчится с юга на север со скоростью девяти километров в час.
— Какой темперамент! — удивляются воды Атлантического океана, а вслед за ними удивляются воды Северного, Норвежского и Баренцева морей.
И все теплеют от удивления, что вот, оказывается, и в северных широтах еще не все промерзло насквозь, что и на севере есть свои Гольфстримы! А Гольфстрим течет.
Сначала у самой поверхности, как это бывает у молодых и горячих, а потом все глубже и глубже.
Глубже и глубже…
И вот уже над ним два километра воды. Течет Гольфстрим, а соседние воды его охлаждают:
— Куда ты спешишь, Гольфстрим? Чего горячишься? Пора бы тебе поостыть.
Гольфстрим уже и сам понимает, что их не согреешь. И он остывает. И поворачивает назад. Потому что когда остынешь, всегда поворачиваешь назад.
Теперь ему спешить некуда, и он движется с прохладцей — полкилометра в час. На глубине почти в три километра.
А над ним, текущим с севера на юг, течет он, Гольфстрим, с юга на север. Молодой и горячий, со скоростью девяти километров в час.
И северные моря теплеют от удивления, что вот, оказывается, в их широтах еще не все промерзло насквозь, что есть еще у них свои Гольфстримы…
Экватор и параллели
Все параллели Земли параллельны Экватору, но это лишь до тех пор, пока он сам параллель и параллелен всем остальным параллелям.
Экватор и меридианы
Только тот, кто изведал холод двух полюсов, способен пересекаться с Экватором.
Дни и ночи Экватора
У Экватора равноденствие круглый год: то ли потому, что для него оба полушария равны, то ли потому, что он умеет держаться разумной середины?
1
Эпицентр землетрясения ничего общего не имеет с центром Земли: не каждый, кто умеет Землю трясти, способен нести на себе Землю.
2
Только настоящая глубина дает устойчивость и непоколебимость позиции: ядро Земли не знает землетрясений.
Однажды заспорили Ветер и Скала: кто на свете самый упрямый?
— Я самая упрямая, — сказала Скала. — Сколько лет ты на меня дуешь, а я стою.
— Нет, я самый упрямый, — сказал Ветер. — Сколько лет ты стоишь, а я все равно дую.
— Меня не сдуешь. Я как стояла, так и буду стоять.
— Меня не перестоишь. Я как дул, так и буду дуть.
Долго они спорили.
Уже и осень прошла, и зима.
Наступила весна, и из трещины в скале пробилась тоненькая Травинка. Пробилась — и стала тянуться вверх. Дождь лил — а она тянулась вверх. Солнце жгло — а она тянулась вверх. Навстречу потокам дождя, навстречу лучам солнца.
— Вот кто самый упрямый, — сказала Скала. — Уж как я ее не пускала, зажимала, удерживала, а она все-таки пробилась. И тянется вверх.
— А я ее гнул, и рвал, и сдувал, а она все-таки тянется вверх, — сказал Ветер. — И почему она тянется вверх?
— Из упрямства. Делать-то ей вверху нечего. Но ты же видишь: дождь льет на нее сверху вниз, лучи падают на нее сверху вниз, вот она и тянется снизу вверх. Из упрямства, из чувства противоречия.
— Лишь бы сделать по-своему, — вздохнул Ветер.
А Травинка все поднималась и поднималась вверх. Она была очень упрямая. Потому что она была живая.
Разве можно переупрямить жизнь? Многие пытались переупрямить жизнь, пытались ее задержать, остановить, — а она все равно пробивается. Все равно живет.
Потому она и живет, что она такая упрямая.
Живет на свете Баобаб — как ободрение всем живущим.
За свои пять тысяч лет он многое повидал: рождение и гибель держав, величие и падение фараонов. Ураганы, несущие смерть. Потопы, несущие смерть. Пожары, несущие смерть. Дикие табуны и дикие орды…
Но — живет на свете Баобаб. Как ободрение всем живущим.
Его рубили, ломали и жгли, с него сдирали кожу — с живого. Его пытались сломать, пытались согнуть — но как его согнешь, когда у него тридцать метров в обхвате? Были землетрясения, все вокруг сотрясалось, а он стоял, как положено стоять тем, кто намерен простоять тысячелетия. И все, что было срублено, содрано с него — отросло.
Пожары прожгли его насквозь, выжгли самую сердцевину. Но он все равно живет. И цветет. Когда отцвели державы и фараоны, и пожары и потопы, и дикие орды и табуны — он все равно цветет, он живет. И даже не затвердел от всех этих испытаний.
Нет, он не затвердел, древесина у него мягкая, недаром ее любят жевать слоны. Баобаб не возражает: пускай жуют, всю не сжуют — все-таки тридцать метров в обхвате. А из коры его вьют веревки, и он тоже не возражает: новая кора отрастет. И плоды новые отрастут, и листья новые отрастут, хотя вечно их кто-нибудь объедает.
И — живет на свете Баобаб. Как ободрение всем живущим.
Ушла Вельвичия от мира сего, удалилась в пустыню. Ушла от шумных лесов, от развесистых крон, от вершин, устремленных в небо… Вельвичия никогда не стремилась в небо, не такой у нее рост. Тридцать сантиметров — тут бы только подняться над землей, чтоб не затеряться среди песков. Да и крону не очень развесить: у Вельвичии всего два листа, и они отпущены ей на всю жизнь, не то что другим деревьям. А растет Вельвичия в основном в ширину: она в три раза шире своего роста. При таких габаритах да при такой листве — где можно жить? Только в пустыне.
И Вельвичия поселилась в пустыне, подальше от глаз. Здесь нет деревьев, с которыми невольно себя сравниваешь, когда живешь среди них. Здесь пески, куда ни посмотришь — пески да еще кочующие над ними туманы…
Пески и туманы, пески и туманы, и так все двадцать веков…