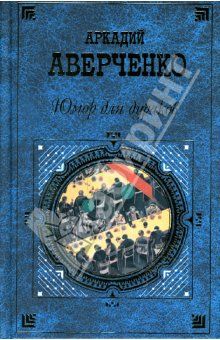— Да, — тихо прошептал Подходцев… — Еще бы! В книжных магазинах нет, потому что эти свиньи не берут. Нам, говорят, журналы не интересны.
— Не берут, — еще тише прошептал Клинков. — А мы их заставим!
И скоро стройная организация пошла в обход по всем магазинам.
Первым входил Клинков.
— Есть у вас журнал «Апельсин»?
— Нет, не держим.
— А селедки у вас есть?
— Что-о?
— Да ясно: раз в книжном и журнальном магазине нет журналов — этот магазин, по логике, должен торговать селедками.
Постепенно он разгорячался.
— Как не стыдно, право! Весь город только и говорит, что о журнале, а они, изволите видеть, не держат! А мыло, свечи, гвозди — есть у вас?! Тьфу!
И уходил, хлопнув дверью и вызвав великий восторг и сенсацию среди скучающих покупателей…
Через пять минут входил Громов:
— Есть… «Апельсин»? — спрашивал он умирающим голосом. — С утра хожу, ищу.
— Нет, извините…
Пошатнувшись, он издавал глухой стон и падал на стойку в глубоком обмороке… Его отпаивали водой, утешали, как могли, обещали, что завтра журнал у них будет, и Громов уходил, предварительно взяв клятву, что его не обманут — усталого доверчивого бедняка…
Через пять минут после него являлся Подходцев.
— Имею честь представиться: управляющий главной конторой журнала «Апельсин»… Хотя вы и отвергли наше телефонное предложение…
— Собственно, мы… гм! Не знали журнала… Теперь, ознакомившись… Вы нам пока десяточка три-четыре пришлите…
Около последнего из намеченных магазинов собрались все трое. Решили устроить самую внушительную демонстрацию, потому что магазин был большой, и публики в нем всегда толклось много.
Все трое вошли плечо к плечу, все трое хором спросили: «Есть ли у вас „Апельсин“», и все трое, услышав отрицательный ответ, в беспамятстве повалились на прилавок.
Впечатление было потрясающее.
Глава VII
КОНЕЦ ПРЕДПРИЯТИЯ
На следующее утро приступили к составлению второго номера.
Подходцев позировал Клинкову для спины Зевса-громовержца, а Громов тщетно подбирал рифму к слову «барышня».
— Поставь вместо барышни — девушку, — участливо посоветовал Подходцев.
— А на девушку, думаешь, есть рифма, — пробормотал Громов и вдруг задрожал: в открытых по случаю духоты дверях стоял околоточный.
— Вы не туда попали, — нерешительно заметил Громов.
— Здесь живет Громов?
— В таком случае вы туда попали. Подходцев! Ведь мы вчера не были пьяны? И не скандалили?
— Нет!
— Так чем же объяснить появление этого вестника горя и слез?
Все трое встали, сдвинулись ближе.
— Вот вам тут бумага из управления. По распоряжению г. управляющего губернией издание сатирического журнала «Апельсин» за его вредное антиправительственное направление — прекращается.
Трое пошатнулись и, не сговариваясь, как по команде упали на пол в глубоком обморочном состоянии.
Это была наглядная аллегория падения всего предприятия, так хорошо налаженного.
Околоточный пожал плечами, положил роковую бумагу на пол и, ступая на носках, вышел из комнаты.
— Почему ты, Клинков, — переворачиваясь на живот, с упреком сказал Подходцев, — не предупредил меня, что мы живем в России.
— Совсем у меня это из головы вон.
— Ну, что ж… Теперь, если приснюсь тетке — буду умнее.
Громов несмело сказал:
— Что ж, господа… Если праздновали рождение — отпразднуем и смерть «Апельсина»…
В этот день пили больше, чем обыкновенно.
Глава VIII
ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК, ВСТРЕЧЕННЫЙ ПО-ХРИСТИАНСКИ
Все проснулись на своих узких постелях по очереди… Сначала толстый Клинков, на нос которого упал горячий луч солнца, раскрыл рот и чихнул так громко, что гитара на стене загудела в тон и гудела до тех пор, пока спавший под ней Подходцев не раскрыл заспанных глаз.
— Кой черт играете по утрам на гитаре? — спросил он недовольно.
Его голос разбудил спавшего на диване третьего сонливца — Громова.
— Что это за разговоры, черт возьми, — закричал он. — Дадите вы мне спать или нет?
— Это Подходцев, — сказал Клинков. — Все время тут разговаривает.
— Да что ему надо?
— Он уверяет, что ты недалекий человек.
— Верно, — пробурчал Громов, — настолько я недалек, что могу запустить в него ботинком.
Так он и поступил.
— А ты и поверил? — вскричал Подходцев, прячась под одеяло. — Это Клинков о тебе такого мнения, а не я.
— Для Клинкова есть другой ботинок, — возразил Громов. — Получай, Клинище!
— А теперь, когда ты уже расшвырял ботинки, я скажу тебе правду: ты не недалекий человек, а просто кретин.
— Нет, это не я кретин, а ты, — сказал Громов, не подкрепляя, однако, своего мнения никакими доказательствами…
— Однако вы тонко изучили друг друга, — хрипло рассмеялся толстяк Клинков, который всегда стремился стравить двух друзей и потом любовался издали на их препирательства. — Оба кретины. У людей знакомые бывают на крестинах, а у нас на кретинах. Хо-хо! Подходцев, если у тебя есть карандаш, — запиши этот каламбур. За него в том журнале, где я сотрудничаю, кое-что дадут.
— По тумаку за строчку — самый приличный гонорар. Чего это колокола так раззвонились? Пожар, что ли?
— Грязное невежество: не пожар, а Страстная суббота. Завтра, милые мои, Светлое Христово Воскресенье. Конечно, вам все равно, потому что души ваши давно запроданы дьяволу, а моей душеньке тоскливо и грустно, ибо я принужден проводить эти светлые дни с отбросами каторги. О, мама, мама! Далеко ты сейчас со своими куличами, крашеными яйцами и жареным барашком. Бедная женщина!
— Действительно, бедная, — вздохнул Подходцев. — Ей не повезло в детях.
— А что, миленькие: хорошая вещь — детство. Помню я, как меня наряжали в голубую рубашечку, бархатные панталоны и вели к Плащанице. Постился, говел… Потом ходили святить куличи. Удивительное чувство, когда священник впервые скажет: «Христос воскресе!»
— Не расстраивай меня, — простонал Громов, — а то я заплачу.
— Разве вы люди? Вы свиньи. Живем мы, как черт знает что, а вам и горюшка мало. В вас нет стремления к лучшей жизни, к чистой, уютной обстановке, — нет в вас этого. Когда я жил у мамы, помню чистые скатерти, серебро на столе.
— Ну, если ты там вертелся близко, то на другой день суп и жаркое ели ломбардными квитанциями.
— Врете, я чистый, порядочный юноша. А что, господа, давайте устроим Пасху, как у людей. С куличами, с накрытым столом и со всей вообще празднично-буржуазной, уютной обстановкой.
— У нас из буржуазной обстановки есть всего одна вилка. Много ли в ней уюта?
— Ничего, главное — стол. Покрасим яйца, испечем куличи…
— А ты умеешь?
— По книжке можно. У нас две ножки шкафа подперты толстой поваренной книгой.
— Здорово удумано, — крякнул Подходцев. — В конце концов, что мы не такие люди, как все, что ли?
— Даже гораздо лучше.
* * *
Луч солнца освещал следующую картину: Подходцев и Громов сидели на полу у небольшой кадочки, в которую было насыпано муки чуть не доверху, и ожесточенно спорили.
Сбоку стояла корзина с яйцами, лежал кусок масла, ваниль и какие-то таинственные пакетики.
— Как твоя бедная голова выдерживает такие мозги, — кричал Громов, потрясая поваренной книгой. — Откуда ты взял, что ваниль распустится в воде, когда она — растение.
— Сам ты растение дубовой породы. Ваниль не растение, а препарат.
— Препарат чего?
— Препарат ванили.
— Так… Ваниль — препарат ванили. Подходцев — препарат Подходцева. Голова твоя препарат телячьей головы…
— Нет, ты не кричи, а объясни мне вот что: почему я должен сначала «взять лучше крупитчатой муки 3 фунта, развести 4-мя стаканами кипяченого молока», проделать с этими 3-мя фунтами тысячу разных вещей, а потом, по словам самоучителя, «когда тесто поднимется, добавить еще полтора фунта муки»? Почему не сразу 41/2 фунта?
— Раз сказано, значит, так надо.
— Извини, пожалуйста, если ты так глуп, что принимаешь всякую печатную болтовню на веру, то я не таков! Я оставляю за собой право критики.
— Да что ты, кухарка, что ли?
— Я не кухарка, но логически мыслить могу. Затем — что значит: «30 желтков, растертых добела»? Желток есть желток, и его, в крайнем случае, можно растереть дожелта.
Громов подумал и потом высказал робкое, нерешительное предположение:
— Может, тут ошибка? Не «растертые» добела, а «раскаленные» добела?
— Знаешь, ты, по-моему, выше Юлия Цезаря по своему положению. Того убил Брут, а тебя сам бог убил. Ты должен отойти куда-нибудь в уголок и там гордиться. Раскаленные желтки! А почему тут сказано о «растопленном, но остывшем сливочном масле»? Где смысл, где логика? Понимать ли это в том смысле, что оно жидкое, нехолодное, или что оно должно затвердеть? Тогда зачем его растапливать? Боже, боже, как это все странно!