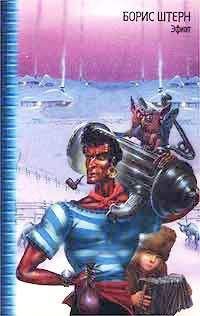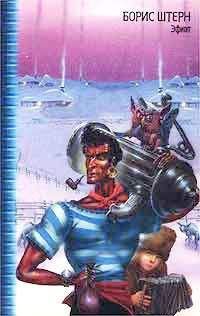ГЛАВА 7. Спой, Сашко!
«Учитель, прогони его, на хрен тебе такой ученик?»
Св. Петр об И. Искариоте. Апокриф. Вольный перевод Б. Штерна
Сашко поначалу состоял при графине Узейро в должности Ваньки Жукова — куда пошлют. Когда графиня собиралась укладываться отдыхать с мужем, Сашка посылали с горы на гору то в Бонцаниго за газетами — обязательно «Унита» и «Аванти!», — то за галетами и кристаллическим йодом в музыкальную лавку (она же была и аптекой) дядюшки Джузепие Верди, то за спиртом в столярную мастерскую падре Карло — дядюшка Карло вырезал из поленьев марионеток на веревочках и шарнирах и любил слушать, как Сашко поет под аккордеон.
— Спой, Сашко, — просил падре. Сашко пел:
Эх, яблочко,
Да ты червивое,
Девки щупают попа
Долгогривого!
— Кто такой «поп долгогривый»? — спрашивал падре Карло. Выслушав объяснение, он вздыхал и грозил пальцем. — Нехорошо, Сашок. Надо исправить на кого-нибудь другого. Не надо плохо о священнослужителях.
Сашко исправлял:
Эх, яблочки!
Одуванчики!
Девки щупают дьяка
На алтарчике!
Это тоже никуда не годилось.
Эх, яблочки!
Фрукты— овощи!
Девки щупают врача
В «скорой помощи»!
— Нехорошо, непонятно, Сашок, — вздыхал падре. — Какие яблочки? Какие овощи? Какие девки? Какого врача?
Но частушки ему почему-то нравились, хотя и никуда не годились.
В домик приходили карабинеры во главе с комиссаром полиции, искали свидетелей происшествия с разбитой головой дядюшки Джузеппе Верди, но дона Карлеоне никто из соседей не выдал. Впрочем, комиссар полиции прекрасно знал, кто вломил дядюшке Джузеппе по голове, на самом деле Дон Карлеоне комиссара не интересовал, он приглядывался к Русской графине. Комиссар что-то вынюхивал — нюхал кактус на подоконнике и пустые бутылки из-под царской водки. Пахло какой-то химией. Русская эмигрантка казалась комиссару подозрительной — уж не агент ли НКВД? — да и Гамилькар не внушал доверия — хоть и влиятельный эритрейский сепаратист, хоть и союзник Италии, но дьявол его знает, чем он тут занимается с этой женщиной.
А с этой женщиной за какие-то год-два произошли психологические метаморфозы — из благородной вдовы она сначала превратилась в пылкую любовницу, а потом в прожженную бомбистку-безмотивницу. Ей все стало до фени. Ее фрейдистские девичьи сдвиги по фазе из-за собственной необъятности остались в далеком дореволюционном прошлом. Еще бы — ее любили именно за ее необъятность. Все стало хорошо. Недостаток превратился в достоинство. «Хорошего человека должно быть много», — вздыхала графиня. Спору нет, так оно и должно было быть, но теперь графиня Кустодиева мало походила на купчиху с картины своего троюродного брата. Теперь, по щедрому заказу негра, ее рисовал сам Модильяни — за три бутылки сухого вина, ящик консервов и пропуск в Офир. Никакого сравнения с ехидным реалистом Борей Кустодиевым. Самая загадочная картина Модильяни — «Эфиопская графиня Узейро в Париже» (почему «эфиопская», осталось загадкой — па картине изображена женщина славянского типа) — рисована в Бонцаниго в домике дона Карлеоне (почему «в Париже» — тоже загадка художника) в безумной желто-фиолетовой гамме — балкон, облупленная стена, — дает нам представление о последних днях любви графини и Гамилькара. Графиня сидит на коленях у негра. Лиловый фонарь под глазом. (Фантазия Модильяни — Гамилькар никогда не бил женщин.) Ее щека подвязана шарфом, наверно, болят зубы. За окном узкая улица, аптека из желтого кирпича. Какой-то строительный блок висит. Не разберешь, ночь ли день — фонарь горит, значит, ночь или вечер. Но, может быть, и утро — дворник Родригес забыл потушить фонарь. Бутылка красного вина на столе. Графиня Л. К. уже похожа на простую заморенную Элку с типичными чертами Соньки, Верки, Катьки, Маньки и Файки, вместе взятых. Эта картина до 80-х годов висела в мадридском Прадо, потом какие-то эфиопы ее украли и тайно продали эфиопской социалистической хунте. Менгисту Хайле Мариам повесил ее в своем кабинете, чтобы помнить подробности раннего неудавшегося покушения на Муссолини — когда Гитлер еще прыгал ефрейтором на столе в мюнхенской пивной и размахивал граненой кружкой, Гамилькар со своей Узейро в особнячке на тихой окраине Бонцаниго готовили покушение на Бенито Муссолини. Их гнездышко мало чем напоминало кривую Люськину хату в севастопольской слободке. У Люськи стояли новый диван и запах милого невинного провинциального разврата, здесь же несло царской водкой, кристаллическим йодом и азотнокислым запахом террора. Разврат пах застиранными простынями, террор — нитроглицерином и глыной. Русская графиня-бомбистка готовила снаряды из пироксилина, азотной кислоты и какой-то вонючей глыны. Это называлось «начинять снаряды». Боялись случайного взрыва. Были сделаны три бомбы — первая, самая лучшая, предназначалась для Муссолини, вторую, похуже, передали в тюрьму для коммунистического побега Грамши и Тольятти, третью, самую надежную, графиня оставила для себя, на всякий случай.
Холод он везде холод, но зимний холод Италии не был похож на российский мороз, потому что в Италии нет культа мороза, культуры холода, узейро Кустодиева околевала от холода, куталась в шубу, камин дымил и не грел, а тут еще сиди обнаженной перед Модильяни — графиня давно уже не стеснялась мужчин, но так, голой, и копыта можно отбросить от холода.
День через день поближе к ночи к домику на горе взбирались какие-то поцарапанные эфиопы и всякие темные личности, похожие кто па Пушкина, кто па средиземноморских воров с «Лиульты Люси», а кто на русскую матросню с «Портвейна-Таврического». Сашко открывал им дверь, и они, по-английски ломая язык, проговаривали пароль:
— Monsieur N. N. teaches the french language on a new and easy system of rapid proficiency.[20]
Сашко по— немецки отвечал:
— Sind sie ein Deutscher?[21] И получал ответ:
— О, nein, mein Herr. Ich bin beinah ihr Landsmann, ich bin ein Pole.[22]
Сашко по— испански кричал в темноту, будил графиню:
— Otro loco mas[23] эфиоп, твою мать, явился!
Эфиопы, воры и матросня с «Портвейна-Таврического» приносили в домик бутылки, аптекарские сулеи, реторты, что-то стеклянное, деревянное, оловянное, что-то железное и подозрительное, какие-то мешки из дерюги, от которых в доме пахло говном и навозом. Сашку наконец-то поручили серьезное задание — отправили его в Рим, и он сидел с аккордеоном у пиццерии перед Венецианским дворцом, пел частушки, торговал eboun-травой и вел за дуче наружное наблюдение — что Муссолини, когда Муссолини, куда Муссолини?
Стаканчики,
Тараканчики!
Разбегаются клопы
По диванчику!
Сейчас в пиццерии за рюмкой тиринтини сидел политический эмигрант батька Махно со своим неизменным телохранителем Жириновским. Махно был седой, дрожащий, весь израненный, облысевший — свою длинногривую прическу он потерял в последнем бою, прорываясь из Украины на Запад через румынскую границу. Его синие глаза давно выцвели, они уже смотрели не куда-то вдаль, но в стол или бегали где-то под ногами.[24] Он прорвался. Но был недоволен собой. Батька чуть не заплакал, услышав родные мотивы. Он узнал Сашка, приветливо помахал дрожащей рукой бывшему однополчанину, дал Жириновскому несколько лир, и тот бросил их хлопчику в мешок с eboun-травой.
— Пусть сыграет «Интернационал», — заказал батька. Сашка чуть не стошнило при этом слове.
— Что ты, Нестор Иваныч… — пугливо сказал Жириновский, оглядываясь по сторонам. — Фашисты кругом.
— Боишься? — ухмыльнулся Махно.
— Боюсь. За мальца боюсь, — ответил Жириновский. Жирный боров Муссолини не очень-то любил выбегать из своего загона, но иногда был труслив до храбрости. Сегодня в обеденный перерыв под охраной чернорубашечников дуче вышел на площадь выпить стаканчик вина, съесть горяченькую пиццу и пообщаться с итальянским народом. Тут он был уязвим. Сашко обалдел. Муссолини стоял перед ним, а у Сашка не было ни бомбы, ни кинжала. «У каждого своя карма и своя кучма», — хмуро и загадочно подумал Сашко.
— Ну, спой что-нибудь, — благосклонно сказал Муссолини и купил у Сашка кулечек с eboun-травой.
Сашко, чуть ли не рыгая, машинально заиграл «Вставай, проклятьем заклейменный».
— Мам-ма миа! — пробормотал Муссолини и вошел в пиццерию.
В эту пиццерию в разные времена иногда заходили перекусить сам папа римский, маршал Бадольо, Антонио Грамши и даже Пальмиро Тольятти. Все итальянцы любили ходить сюда. Они тоже любили слушать «Маруську», «Кирпичики», «Как на Дерибасовской». Коммунистический писатель Джанни Родари в виде показательной забастовки жил у пиццерии в большой пивной бочке. Мимо бочки проходили буржуазные сеньоры Помидоры, мафиозные доны Карлеоны и богемные музыканты Джузеппы Верди, смотрели па новоявленного Диогена. Муссолини тоже посмотрел на Джанни Родари, купил ему пиццу. «Работать, — сказал, — надо». Посоветовал ему добровольно угодить в тюрьму, если жить негде. «Фашизм — большая семья, — сказал Муссолини, — всем место найдется».