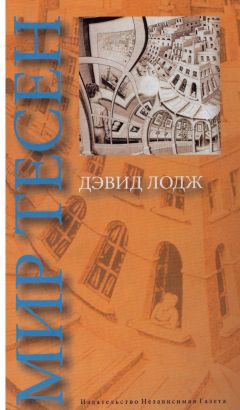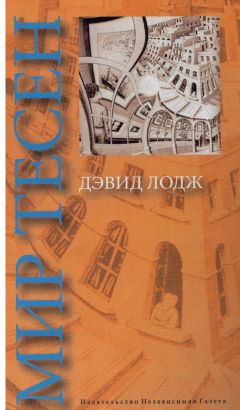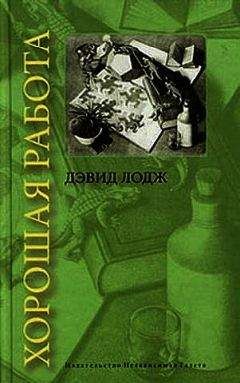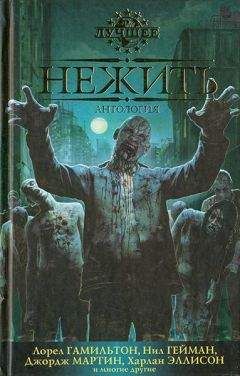— Ну, возьмем слова «кошка» и «мышка». Как ни старайтесь, вы не сможете объяснить, почему сочетание фонем к-о-ш-к-а означает четвероногое животное, которое охотится за другим четвероногим, представленным сочетанием фонем м-ы-ш-к-а. Это отношение абсолютно произвольное, и мы вполне можем допустить, что завтра носители языка решат, что к-о-ш-к-а означает «мышка», а м-ы-ш-к-а означает «кошка».
— А животные не запутаются? — спросил Перс.
— Со временем привыкнут, как все остальные, — ответил Демпси. — Нам это известно, поскольку одно и то же животное в разных языках передается различными акустическими образами. Например, «кошка» по-французски будет сhat, по-немецки — Каtze, по-итальянски — gatto и так далее. А вот «собака» — это сhien, Нund, саnе в зависимости от того, в какой части Общего рынка вы находитесь. И если мы больше верим языку, чем собственным ушам, то французские собаки лают «вуа-вуа», немецкие — «вау-вау», итальянские — «бау-бау».
— О! Уж не в фанты ли тут играют? — спросил Филипп Лоу. Он вернулся в бар вместе с Моррисом Цаппом, которому теперь выдали нагрудный значок. — Демпси, ты помнишь Морриса Цаппа?
— Я растолковывал основы структурализма этому молодому человеку, — пояснил Демпси, обменявшись приветствиями с вновь прибывшими. — Но ты, Филипп, никогда не уделял должного внимания лингвистике, не так ли?
— Что верно, то верно. Я и до сих не помню, что там идет сначала, — морфемы или фонемы. А при виде дерева зависимостей просто тупею.
— То есть становлюсь еще тупее, — прибавил Демпси с презрительной ухмылкой.
Воцарилось неловкое молчание. Его прервала Анжелика.
— На самом деле, — тонким голоском сказала она, — Якобсон приводит в пример степени сравнения прилагательных, то есть положительную, сравнительную и превосходную формы, как доказательство того, что язык не безусловно произвольная система. Вот мы имеем: тупой, тупее, тупейший. Чем больше фонем, тем сложнее значение. Это верно и для других индоевропейских языков; возьмем, например, латынь: stultus, stultior, stultissimus[10]. Так что, по всей видимости, вопреки языковым границам, существует некое универсальное соотношение между звучанием и значением.
Все четверо мужчин, открыв рты, уставились на Анжелику.
— Кто это юное дарование? — спросил Моррис Цапп. — Может, меня представят?
— Ох, извини, — сказал Филипп Лоу. — Мисс Пабст — профессор Цапп.
— Зовите меня просто Моррис, — сказал американский профессор, протягивая руку и всматриваясь в значок на груди Анжелики. — Рад познакомиться, Ал.
— Это было просто здорово, — сказал Перс Анжелике за обедом. — То, как вы поставили Демпси на место.
— Надеюсь, это было не слишком в лоб, — ответила Анжелика. — В принципе-то он прав. Все языки членят действительность по-разному. Вот, например, баранина, которую мы едим. По-английски это mutton, а по-французски словом mouton обозначается и мясо, и само животное. Поэтому по-французски нельзя сказать dead as mutton[11], у вас выйдет «мертвый как овца», а это бессмыслица.
— На вкус это скорее мертвая овца, чем баранина, — сказал Перс, отодвигая тарелку. К столу, за которым они сидели, подошла официантка с ярко-желтыми кудряшками. Перед собой она толкала тележку, на которой стопками стояли тарелки с недоеденным обедом.
— Больше не будешь, сынок? — спросила она. — Я тебя понимаю. Казенная еда.
— Вы написали стихотворение? — спросила Анжелика. — Сегодня вечером вы его прочтете. Для этого вам надо будет подняться на верхний этаж общежития. — Там ваша комната? — Нет.
— Тогда зачем подниматься? — А вы увидите.
— Тайна, — улыбнулась Анжелика, наморщив нос. — Это я люблю.
— В десять вечера на последнем этаже. К тому времени уже взойдет луна.
— Может быть, это просто предлог, чтобы назначить мне свидание?
— Но вы же сами сказали, что ваша тема — любовные романы…
— И вы решили снабдить меня материалом? Вы знаете, его у меня и так больше чем достаточно. Я прочла сотни любовных романов: античные, средневековые, эпохи Ренессанса, современные… Гелиодор и Апулей, Кретьен де Труа и Мэлори, Ариосто и Спенсер, Ките и Барбара Картленд. Материала хватит. Теперь мне нужна теория, чтобы все это объяснить.
— Теория? — встрепенулся Филипп Лоу, сидящий за несколько приборов от Перса и Анжелики. — Не будите во мне зверя. Когда я слышу это слово, я хватаюсь за пистолет[12].
— Тогда тебе точно не понравится мой доклад, Филипп, — сказал Моррис Цапп.
Доклад Морриса Цаппа пришелся по вкусу далеко не всем, и некоторые слушатели покинули аудиторию до его окончания. Руперт Сатклиф, как председатель секции вынужденный сидеть в президиуме, изобразил на лице остекленевшую бесстрастность, однако постепенно и незаметно у него все больше отвисала нижняя губа, а очки все ниже сползали на кончик носа. Моррис Цапп читал доклад, расхаживая взад и вперед с текстом в одной руке и толстой сигарой в другой.
— Перед вами, — начал он, — человек, когда-то искренне веривший в возможность истолкования художественного произведения. Иными словами, мне казалось, что конечная цель чтения текста — это определение его смысла. Когда-то я был специалистом по Джейн Остен. И даже могу без ложной скромности сказать — единственным специалистом по Джейн Остен. Я написал о ней пять книг, в каждой пытался определить смысл и значение ее романов и, естественно, доказать, что до сих пор ее по-настоящему не понимали. Затем я начал работать над комментариями к романам Джейн Остен, поставив себе цель исчерпать все вопросы до конца, исследовать ее произведения со всех мыслимых точек зрения — исторической, биографической, риторической, мифологической, структуралистской, фрейдистской, юнгианской, марксистской, экзистенциалистской, христианской, аллегорической, этической, феноменологической, архетипической и так далее, и так далее. Таким образом, когда эти комментарии будут написаны, о романе как таковом ничего больше нельзя будет сказать.
И конечно, работа не была завершена — не по причине утопичности проекта, а потому, что я сам себе не враг. Под этим я разумею не только то, что, добейся я успеха, все мы в конце концов остались бы не у дел. Я хочу сказать, что предприятие было обречено на провал в силу его нереализуемости, и объясняется это природой человеческого языка, в котором значение постоянно переходит от одного означающего к другому и никогда не может быть реально зафиксировано.
Понять высказывание значит декодировать его. Язык — это код.Но каждое декодирование — это тоже кодирование.Когда вы мне что-то говорите, я проверяю, правильно ли я вас понял, перефразируя ваше высказывание своими словами, то есть словами, отличными от тех, которые употребили вы, ибо, если я в точности повторю ваши слова, вы станете сомневаться, что я вас правильно понял. Если же я используюсвои собственныеслова, из этого следует, что я изменил смыслвашеговысказывания, пусть и незначительно. Но даже если я, покривив душой, слово в слово повторю ваше высказывание, чтобы просигнализировать, будто я вас понял, никто не может дать гарантию, что в моей голове будет воспроизведен точный смысл вашего высказывания, потому что в него я привношу собственный опыт использования языка, свое знание литературы, а также экстралингвистические коннотации употребленных слов, так что для меня они будут иметь иное значение, чем то, которое имеют для вас. А если вам показалось, что я неправильно вас понял, вы не станете повторять свое высказывание, используя те же самые слова, но постараетесь объяснить его иными словами, отличными от тех, которые вы употребили в первоначальном высказывании. Но тогда это будет уже другое высказывание, не то, с которого вы начали. И если на то пошлого и сами вы уже будете не тем, кем вы были, когда произносили первоначальное высказывание. С тех пор как вы открыли рот, прошло некоторое время, молекулы вашего тела изменились, то, что выхотелисказать, заменилось вашимреальнымвысказыванием, и все это уже стало историей, которую к тому же вы теперь толком и не помните. Общение можно уподобить игре в теннис пластилиновым мячиком, который, пролетая через сетку, всякий раз меняет форму.
Чтение, конечно, процесс отличный от устной коммуникации. Оно более пассивно в том смысле, что вы не можете с текстом взаимодействовать, не можете влиять на его развитие посредством замены слов на ваши собственные, поскольку тут слова суть некая данность. Но именно этот факт, как мне представляется, и побуждает нас к истолкованию текста. И в самом деле: если слова зафиксированы раз и навсегда, на каждой конкретной странице, то, может быть, точно так же зафиксирован их смысл? Однако это не так, поскольку та же самая аксиома, гласящая, что каждое декодирование — это тоже кодирование, применима к литературному анализу в еще большей степени, чем к обычному устному дискурсу. В обычном устном дискурсе бесконечная цепочка перекодирований может быть прервана действием. Например, если я говорю: «Дверь открылась», а вы отвечаете: «Вы хотите, чтобы я закрыл ее?», а я говорю: «Да, пожалуйста», и вы ее закрываете, то Мы довольствуемся тем, что на каком-то уровне мы друг друга поняли. Но если в тексте художественного произведения мы читаем «Дверь открылась», я не могу спросить у текста, что именно он имел в виду, я могу лишь предаваться размышлениям о том, каково значение свершившегося факта: открылась ли дверь под воздействием какой-то силы, ведет ли дверь к раскрытию какой-то тайны, к какой-то цели и так далее. Аналогия с теннисом к чтению неприменима, это не есть двусторонний процесс, но бесконечное, мучительное провоцирование, это заигрывание, не ведущее к любовному акту, а если последний и происходит, то в одиночестве и может быть уподоблен мастурбации. (При этом слове слушатели заерзали на стульях.) Читатель играет в теннис сам с собой, а текст играет с читателем, подыгрывает его любопытству, разжигает его желание: так стриптизерка стремится раздразнить любопытство публики и хорошенько разогреть ее.