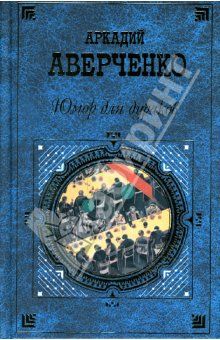— Хи-хи! — запищал голый Гришка. — Уроков не учили, из ружья стреляли, курили, вечером купались и лопали уху вместо обеда.
— А все Михаил Петрович, — сказал Лелька, почтительно целуя мою руку.
— Мы вас не выдадим!
— Можно называть вас Мишей? — спросил Гришка, окуная палец в котелок с ухой. — Ой, горячо!..
— Называйте. Бес с вами. Хорошо вам со мной?
— Превосхитительно!
Поужинав, закурили папиросы и разлеглись на одеялах, притащенных из дому Ванькой.
— Давайте ночевать тут, — предложил кто-то.
— Холодно, пожалуй, будет от реки. Сыро, — возразил я.
— Ни черта! Мы костер будем поддерживать. Дежурить будем.
— Не простудимся?
— Нет, — оживился Ванька. — Накажи меня бог, не простудимся!!!
— Ванька! — предостерег Лелька. — Божишься? А что немка говорила?
— Божиться и клясться нехорошо, — сказал я. — В особенности так прямолинейно. Есть менее обязывающие и более звучные клятвы… Например: «Клянусь своей бородой!», «Тысяча громов»… «Проклятие неба!»
— Тысяча небов! — проревел Гришка. — Пойдем собирать сухие ветки для костра.
Пошли все. Даже неповоротливый Лелька, державшийся за мою ногу и громко сопевший.
Спали у костра. Хотя он к рассвету погас, но никто этого не заметил, тем более что скоро пригрело солнце, защебетали птицы, и мы проснулись для новых трудов и удовольствий.
Трое суток промелькнули, как сон. К концу третьего дня мои питомцы потеряли всякий человеческий образ и подобие…
Матросские костюмчики превратились в лохмотья, а Гришка бегал даже без штанов, потеряв их неведомым образом в реке. Я думаю, что это было сделано им нарочно, — с прямой целью отвертеться от утомительного снимания и надевания штанов при купании.
Лица всех трех загорели, голоса от ночевок на открытом воздухе огрубели, тем более что все это время они упражнялись лишь в кратких, выразительных фразах:
— Проклятье неба! Какой это мошенник утащил мою папиросу?.. Что за дьявольщина! Мое ружье опять дало осечку. Дай-ка, Миша, спичечки!
К концу третьего дня мною овладело смутное беспокойство: что скажут родители по возвращении?
Дети успокаивали меня, как могли:
— Ну, поколотят вас, эка важность! Ведь не убьют же!
— Тысяча громов! — хвастливо кричал Ванька. — А если они, Миша, дотронутся до тебя хоть пальцем, то пусть берегутся. Даром им это не пройдет!
— Ну, меня-то не тронут, а вот вас, голубчики, отколошматят. Покажут вам и курение, и стрельбу, и бродяжничество.
— Ничего, Миша! — успокаивал меня Лелька, хлопая по плечу. — Зато хорошо пожили!
Вечером приехали из города родители, немка и та самая «глупая тетка», на которой дети не советовали мне жениться из-за мышей.
Дети попрятались под диваны и кровати, а Ванька залез даже в погреб.
Я извлек их всех из этих мест, ввел в столовую, где сидело все общество, закусывая с дороги, и сказал:
— Милый мой! Уезжая, ты выражал надежду, что я сближусь с твоими детьми и что они оценят общительность моего нрава. Я это сделал. Я нашел путь к их сердцу… Вот, смотри! Дети! Кого вы любите больше: отца с матерью или меня?
— Тебя! — хором ответили дети, держась за меня, глядя мне в лицо благодарными глазами.
— Пошли вы бы со мной на грабеж, на кражу, на лишения, холод и голод?
— Пойдем, — сказали все трое, а Лелька даже ухватил меня за руку, будто бы мы должны были сейчас, немедленно пуститься в предложенные мной авантюры.
— Было ли вам эти три дня весело?
— Ого!!
Они стояли около меня рядом, сильные, мужественные, с черными от загара лицами, облаченные в затасканные лохмотья, которые придерживались грязными руками, закопченными порохом и дымом костра.
Отец нахмурил брови и обратился к маленькому Лельке, сонно хлопавшему глазенками:
— Так ты бы бросил меня и пошел бы за ним?
— Да! — сказал бесстрашный Лелька, вздыхая. — Клянусь своей бородой! Пошел бы.
Лелькина борода разогнала тучи. Все закатились хохотом, и громче всех истерически смеялась тетя Лиза, бросая на меня лучистые взгляды.
Когда я отводил детей спать, Гришка сказал грубым, презрительным голосом:
— Хохочет… Тоже! Будто ей под юбку мышь подбросили! Дура.
В комнате происходил разговор.
— У нас с тобой нет ни копейки денег, есть нечего и за квартиру не заплачено за два месяца.
Я сказал:
— Да.
— Мы вчера не ужинали, сегодня не пили утреннего чая и впереди нам не предстоит ничего хорошего.
Я подтвердил и это. Андерс погладил себя по небритой щеке и сказал:
— А, между тем, есть способ жить припеваючи. Только противно.
— Убийство?
— Нет.
— Работа?
— Не совсем. Впрочем, это противно, как ежедневное занятие… А один день для курьеза попробуем… А?
— Попробуем. Что нужно делать?
— Пустяки. То же, что и я. Одевайся, пойдем на воздух.
— Хозяин остановит.
— Пусть!
Когда мы вышли из комнаты и зашагали по коридору, я старался прошмыгнуть незаметно, не делая шуму, а Андерс, наоборот, бесстрашно ступал ногами, как лошадь.
В конце длиннейшего коридора нас нагнала юркая горничная.
— Г. Андерс, хозяин Григорий Григорьич очень просят вас зайти сейчас к ним.
— Свершилось! — прошептал я, прислонясь к стене.
— А-а… Очень кстати. С удовольствием. Пойдем, дружище.
Отвратительный старикашка, владелец меблированных комнат, помешанный на чистоте и тишине, встретил нас холодно:
— Извините, господа. По делу. Вероятно, в душе думаете: «Зачем мы понадобились этой старой скотине?»
Андерс укоризненно покачал головой и хладнокровно сказал:
— Мы все равно собирались сегодня зайти к вам.
В глазах старика сверкнула радость.
— Ну? Правда? В самом деле?
— Да… хотели вас искренно и горячо поблагодарить. Вы знаете, мне приходилось живать во многих меблированных комнатах, иногда очень дорогих и роскошных — но такой тишины, такой чистоты и порядка, я буду говорить откровенно: нигде не видел! Я каждый день спрашиваю его (Андерс указал на меня) — откуда Григорий Григорьич берет время вести такое громадное сложное предприятие?..
— Он меня, действительно, спрашивал, — подтвердил я. — А я ему, помнится, отвечал: «Не постигаю. Тут какое-то колдовство!»
— Да, — сказал старик с самодовольным хохотом. — Трудно соблюдать чистоту, тишину и порядок.
— Но вы их соблюдаете идеально!! — горячо воскричал Андерс. — Откуда такой такт, такое чутье!.. Помню, у вас в прошлом году жил один пьяница и один самоубийца. Что ж они, спрашивается, посмели нарушить тишину и порядок? Нет! Пьяница, когда его привозили друзья, не издавал ни одного звука, потому что был смертельно пьян, и, брошенный на постель, сейчас же бесшумно засыпал… А самоубийца — помните? — взял себе, потихоньку повесился и висел терпеливо, без криков и воплей, пока о нем не вспомнили на другой день.
— А ревнивые супруги! — подхватил я. — Помнишь их, Андерс? Когда она застала мужа с горничной — что было? Где крики? Где ссора и скандал? Ни звука? Просто взяла она горничную и с мягкой улыбкой выбросила в открытое окно. Правда, та сломала себе ногу, но…
— …Но ведь это было на улице, — ревниво подхватил старикашка. — То, что на улице, к моему меблированному дому не относится…
— Конечно!! При чем вы тут? Мало ли кому придет охота ломать на улице ноги — касается это вас? Нет!
— Да… много вам нужно силы воли и твердости, чтобы вести так дело! Эта складочка у вас между бровями, характеризующая твердость и непреклонную волю…
— Вы, вероятно, в молодости были очень красивы?
— Да и теперь еще… — подмигнул Андерс. — Ой-ой!.. Если был бы я женат, подальше прятал бы от вас свою же… Ой, заболтались с вами! Извиняюсь, что отнял время. Пойдем, товарищ. Еще раз, дорогой Григорий Григорьич, приносим от имени всех квартирантов самые искренние, горячие… Пойдем!..
Повеселевший старик проводил нас, приветственно размахивая дряхлыми руками. В коридоре нам опять встретилась горничная.
— Надя! — остановил ее Андерс. — Я хочу спросить у вас одну вещь. Скажите, что это за офицер был у вас вчера в гостях… Я видел — он выходил от вас…
Надя весело засмеялась.
— Это мой жених. Только он не офицер, а писарь… военный писарь… в штабе служит.
— Шутите! Совсем, как офицер! И какой красавец… умное такое лицо… Вот что, Надичка… Дайте-ка нам на рубль мелочи. Извозчики, знаете… То да другое.
— Есть ли? — озабоченно сказала Надя, шаря в кармане. — Есть. Вот! А вы заметили, какие у него щеки? Розовые-розовые…