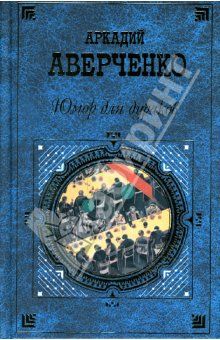— Ну, конечно, — удивилась она. — Как же можно говорить о том, что правило — десять пальцев, когда (ты же сам говоришь!) существуют люди с двенадцатью пальцами.
Говоря это, она деловито бегала по комнате, уже забыв о своих горьких слезах, и деловито переставляла какие-то фарфоровые фигурки и какие-то цветы в вазочках. И вся она в своих туфельках на высоких каблуках, в нечеловеческом пеньюаре из кружев и ленточек, с золотистой подстриженной кудрявой головкой и еще не высохшими от слез глазами, с ее покровительственным тоном, которым она произнесла последние слова, — вся она, эта спокойно чирикающая птица, не ведающая надвигающейся грозы моего к ней равнодушия, — вся она, как вихрем, неожиданно закружила мое сердце.
Лопнула какая-то плотина, и жалость к ней, острая и неизбывная жалость, которая сильнее любви, — затопила меня всего.
«Вот я сейчас только решил в душе своей, что не люблю ее и прогоню от себя… А куда пойдет она, эта глупая, жалкая, нелепая пичуга, которая видит в моих глазах звезды, а в манере держаться — какого-то не существующего в природе серебристого тигра? Что она знает? Каким богам, кроме меня, она может молиться? Она, назвавшая меня вчера своим голубым сияющим принцем (и чина такого нет, прости ее господи!)».
А она, постукивая каблучками, подошла ко мне, толкнула розовой ладонью в лоб и торжествующе сказала:
— Ага, задумался! Убедила я тебя? Такой большой — и так легко тебя переспорить…
Жалость, жалость, огромная жалость к ней огненными языками лизала мое черствое, одеревеневшее сердце.
Я привлек ее к себе и стал целовать. Никогда не целовал я ее более нежно и пламенно.
— Ой, оставь, — вдруг тихонько застонала она. — Больно.
— Что такое?!
— Вот видишь, какой ты большой и глупый… Я хотела тебе сделать сюрприз, а ты… Ну да! Что ты так смотришь? Через семь месяцев нас будет уже трое… Ты доволен?
* * *
Я долго не мог опомниться.
Потом нежно посадил ее к себе на колени и, разглядывая ее лицо с тем же напряженным любопытством, с каким вивисектор разглядывает кролика, спросил недоверчиво:
— Слушай, и ты не боишься?
— Чего?..
— Да вот этого… ребенка… Ведь роды вообще опасная штука.
— Бояться твоего ребенка? — мягко, непривычно мягко усмехнулась она. Что ты, опомнись… Ведь это же твой ребенок.
— Послушай… Можно еще устроить все это…
— Нет!
Это прозвучало как выстрел. Последующее было мягче, шутливее:
— А ты прав: между мужчиной и женщиной большая разница…
— Почему?
— Да я думаю так: если бы детей должны были рожать не женщины, а мужчины, — они бежали бы от женщин, как от чумы…
— Нет, — серьезно возразил я. — Мы бы от женщин, конечно, не бегали. Но детей бы у нас не было — это факт.
— О, я знаю. Мы, женщины, гораздо храбрее, мужественнее вас. И знаешь это будет превесело: нас было двое — станет трое.
Потом она долго, испытующе поглядела на меня:
— Скажи, ты меня не прогонишь?
Я смутился:
— С чего ты это взяла? Разве я говорил тебе о чем-нибудь подобном?
— Ты не говорил, а подумал. Я это почувствовала.
— Когда?
— Когда переставляла цветы, а ты сидел тут на оттоманке и думал. Думал ты: на что она мне — прогоню-ка я ее.
Я промолчал, а про себя подумал другое: «Черт знает кто их сочинил, таких… Умом уверена, что люди о двенадцати пальцах, а чутьем знает то, что на секунду мелькнуло в темных глубинах моего мозга…»
— Ты опять задумался, но на этот раз хорошо. Вот теперь ты миляга.
Разгладив мои усы, поцеловала их кончики и в раздумье сказала:
— Пожалуй, что ты больше всего похож на зайца: у тебя такие же усики…
— Нет, уж извини: мне серебристый тигр больше по душе!..
— Ну, не надо плакать, — покровительственно хлопнула она меня по плечу. — Конечно, ты тигр серебряный, а усики из золота с бриллиантами.
Я глядел на нее и думал:
«Ну, кому она нужна, такая? Нет, нельзя ее прогнать. Пусть живет со мной».
— Ну, послушай… Ну, посуди сам: разве это не весело? Нас сейчас двое, а через семь месяцев будет трое.
* * *
И тут она ошиблась, как ошибалась во многом: через семь месяцев нас было по-прежнему двое — я и сын. Она умерла от родов.
* * *
Мне очень жалко ее.
— Это, наконец, черт знает, что такое!! Этому нет границ!!! И редактор вцепился собственной рукой в собственные волосы.
— Что такое? — поинтересовался я. — Опять что-нибудь по министерству народного просвещения?
— Да нет…
— Значит, министерство финансов?
— Да нет же, нет!
— Понимаю. Конечно, министерство внутренних дел?
— Позвольте… Междугородный телефон, это к чему относится?
— Ведомство почт и телеграфов.
— Ну, вот… Чтоб им ни дна ни покрышки!! Представьте себе: опять из Москвы ни звука. Потому что у них там что-то такое случилось — газета должна выходить без московского телефона. О, пррр!.. Вот, послушайте: если бы вы были настоящим журналистом — вы бы расследовали причины такого безобразия и довели бы об этом до сведения общества!!
— А что ж вы думаете… Не расследую? И расследую.
— Вот это мило. У них там, говорят, телефонную проволоку воруют.
— Кто ворует?
— Тамошние мужики.
— Нынче же и поеду. Я вам покажу, какой я настоящий журналист!
Было раннее холодное утро, когда я, выйдя на маленькой промежуточной между двумя столицами станции, тихо побрел по направлению к ближайшей деревушке.
Догнал какого-то одинокого мужичка.
— Здорово, дядя!
— Здорово, племянничек. Откудова будешь?
— С самого Питербурху, — отвечал я на прекраснейшем русском языке. Ну, как у вас тут народ… Ничего живет?
— Да будем говорить так, что ничего. Кормимся. Урожай, будем сказать, ничего. Первеющий урожай.
— Цены как на хлеб?
— Да цены средственные. Французские булки, как и допрежь, по пятаку, а сайки по три.
— Я не о том, дядя. Я спрашиваю, как урожай-то продали?
— Урожай-то? Да полтора рубля пуд.
— Это вы насчет ржи говорите?
— Со ржой дешевле. Да только ржи ведь на ней не бывает. Слава богу, оцинкованная.
— Что оцинкованная?
— Да проволока-то. На ней ржи не бывает.
— Фу, ты господи! А хлеб-то вы сеете?
— Никак нет. Не балуемся.
Я, вгляделся вдаль. Несколько мужиков с косами за плечами брели по направлению к нам.
— Что это они?
— Косить идут.
Все представления о сельском хозяйстве зашатались в моем мозгу и перевернулись вверх ногами.
— Косить?! В январе-то?
— А им што ж. Как навесили, так значит и готово.
Поселяне, между тем, с песнями приблизились к нам… Пели, очевидно, старинную местную песню:
Эх, ты проволока
Д-металлицкая,
Эх, кормилица
Ты мужицкая!..
Срежу я тебя
Со столба долой,
В городу продам
Парень удалой!..
Увидев меня, все сняли шапки.
— Бог в помощь! — приветливо пожелал я.
— Спасибо на добром слове.
— Работать идете?
— Это уж так, барин. Нешто православному человеку возможно без работы. Не лодыри какие, слава тебе господи.
— Косить идете?
— А как же. На Еремином участке еще вчерась проволока взошла.
— Как же вы это делаете?
— Эх, барин, нешто сельских работ не знаешь? Спервоначалу, значит, ямы копают, потом столбы ставят. Мы, конечно, ждем, присматриваемся. А когда, значит, проволока взойдет на столбах, созреет — тут мы ее и косим. Девки в бунты скручивают, парни на подводы грузят, мы в город везем. Дело простое. Сельскохозяйственное.
— Вы бы лучше хлеб сеяли, чем такими «делами» заниматься, — несмело посоветовал я.
— Эва! Нешто можно сравнить. Тут тебе благодать: ни потравы, ни засухи; семян — ни боже мой.
— Замолол, — перебил строгий истовый старик. — Тоже ведь, господин, ежели сравнить с хлебным промыслом, то и наше дело тоже не мед. Перво-наперво у них целую зиму на печи лежи, пироги с морковью жуй. А мы круглый год работай, как окаянные. Да и то нынче такие дела пошли, что цены на проволоку падать стали. Потому весь крещеный народ этим займаться стал.
— А то и еще худшее, — подхватил корявый мужичонко. — Этак иногда по три, по пяти ден проволоку не навешивают. Нешто возможно?
— Это верно: одно безобразие, — поддержал третий мужик. — Нам ведь тоже есть-пить нужно. Выйдешь иногда за околицу на линию, посмотришь — какой тут к черту урожай: одни столбы торчат. Пока еще там они соберутся проволоку подвесить…
— А что же ваша администрация смотрит? — спросил я. — Сельские власти за чем смотрят?!