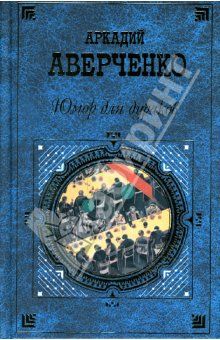— Незачем это, — холодно отвечал Надькин. — Разве мне не все равно будет тебе казаться эта колокольня или нет?
Оба замолчали.
— Постой, постой, — вдруг горячо замахал руками Неизвестный человек. А я, что ж, по-твоему, если умру… Если раньше тебя — тоже все тогда исчезнет?
— Зачем же ему исчезать, — удивился Надькин, — раз я останусь жить?! Если ты помрешь — значит, помер просто, чтобы я это чувствовал и чтоб я поплакал над тобой.
И, встав с земли и стоя на коленях, спросил ленкоранский лесоторговец сурово:
— Значит, выходит, что и я только для тебя существую, значит, и меня нет, ежели ты на меня не смотришь?
— Ты? — нерешительно промямлил Надькин.
В душе его боролись два чувства: нежелание обидеть друга и стремление продолжить до конца, сохранить всю стройность своей философской системы.
Философская сторона победила:
— Да! — твердо сказал Надькин. — Ты тоже. Может, ты и появился на свет для того, чтобы для меня достать кулич, курицу и водку и составить мне компанию.
Вскочил на ноги ленкоранский продавец… Глаза его метали молнии. Хрипло вскричал:
— Подлец ты, подлец, Надькин! — Знать я тебя больше не хочу! Извольте видеть — мать меня на что рожала, мучилась, грудью кормила, а потом беспокоилась и страдала за меня?! Зачем? Для чего? С какой радости?.. Да для того, видите ли, чтобы я компанию составил безработному телеграфистишке Надькину? А? Для него я рос, учился, с ленкоранскими лесами дело придумал, у Гигикина курицу и водку на счет лесов скомбинировал. Для тебя? Провались ты! Не товарищ я тебе больше, чтобы тебе лопнуть!
Нахлобучив шапку на самые брови и цепляясь полуоторванной подметкой о кочки, стал спускаться Неизвестный человек с пригорка, направляясь к городу.
А Надькин печально глядел ему вслед и, сдвинув упрямо брови, думал по-прежнему, как всегда он думал:
— Спустится с пригорка, зайдет за перелесок и исчезнет… Потому, раз он от меня ушел — зачем ему существовать? Какая цель? Хо!
И сатанинская гордость расширила болезненное, хилое сердце Надькина и освещала лицо его адским светом.
Лучи солнца имеют свойство, которое, вероятно, не всем известно… Если человек долго находится под действием солнечных лучей, он ими пропитывается, его мозг, его организм удерживают в себе надолго эти лучи, и весь его характер приобретает особую яркость, выразительность, выпуклость и солнечность.
Эта насыщенность лучами солнца сохраняется на долгое время, пожалуй, навсегда.
Ярким примером тому может служить Сергей Уточкин — кого мы еще так недавно искренно оплакали.
Он умер и унес с собой частицу еще неизрасходованного запаса солнца.
А излучался он постоянно, и все его друзья и даже посторонние грелись в этих ярких по южному, пышных струях тепла и радости.
Кто таков был Уточкин, каков был его характер, какова была его жизнь знают многие, а Одесса, пожалуй, — и вся. Эта милая, веселая любопытная Одесса, этот огромный «журнал Пате, который все видит» сквозь огромные зеркальные окна своих кафе и ресторанов — вся Одесса напоминает мне огромное окно в кафе; сидишь уютно у самого стекла, и перед тобой проходит вся жизнь огромного города…
Поэтому Одесса прекрасно знает «своего» Уточкина, и сотни хороших беззлобных анекдотов об Уточкине на устах у всех одесситов.
Теперь бедняга Уточкин уже — область истории, и поэтому я считаю себя вправе внести и свою лепту в сокровищницу рассказов об Уточкине, и изложить здесь один случай, который с особенной выпуклостью характеризует этого удивительного человека.
Южное солнце пропекает человека до самого нутра, до самой сути. Вот почему от всего, что делал Уточкин, веет жарким летним загаром пышного богатого июля месяца.
Веселье и юмор искрятся в каждом его шаге, в каждом его трюке. Веселье, юмор, легкая безобидная плутоватость, головокружительная, но спокойная смелость и неожиданная выдумка.
Таков Уточкин, и таков случай с автомобилистом-инженером.
Об этом случае я и пишу.
* * *
Кому-то из неугомонных одесситов пришла в голову мысль — устроить состязание автомобилей между Одессой и Николаевом.
Устроили.
Участвовал, конечно, и Уточкин.
До Николаева добрались благополучно, и это неожиданное благополучие так обрадовало гонщиков, что в Николаеве за обедом напились.
У всякого человека опьянение выражается по-разному. Есть милые добродушные люди, которые размякши, как пуховая перина, плачут восторженными слезами и пытаются зацеловать и обслюнить все окружающее — будь то приятель, лошадь, собака или даже бездушная спокойная дверь, которая не всегда даже взвизгнет при таком вольном обращении.
Но есть пьяные — страшные. Их маленькие свирепые глазки наливаются кровью, и они подозрительно и свирепо, по носорожьему, шныряют этими пытливыми глазками по всем лицам — нельзя ли к чему-нибудь придраться и учинить скандал… Тут все годится: простое человеческое слово, движение, даже взгляд.
В характере такого пьяного, действительно, много носорожьего: так же его раздражает все постороннее, все свежее, на все он тупо и злобно набрасывается, — только других пьяных он щадит, и их присутствие его не раздражает. Впрочем, и носорог довольно спокойно переносит присутствие другого носорога.
Инженер Зет выехал из Одессы в самом хорошем настроении, в таком же настроении приехал в Николаев, в таком же настроении сел за стол и выпил несколько бокалов вина. Никто его не замечал, никто не обращал на него особенного внимания, а между тем глаза его все краснели да краснели, рот все кривился да кривился. А за сладким рыжие волосы его неожиданно поднялись дыбом, он вскочил, обрушил рыжий веснушчатый кулак на стол и загремел, как гром среди ясного неба:
— Ш-што-сс?! Ма-а-алчать! Пр-рошу не шуметь!! Кто тут шумит? Б-бутылкой по голове за это!
— Набрался, — скорбно сказал кто-то. — И как тихо — никто и не заметил.
— М-а-алчать! Что за шум?
— Да ведь это вы сами и шумите, — засмеялся его сосед.
— Што-о-о? Смеешься? Надо мной смеешься? Как собак перестреляю!!!
Хотя он был и пьян, но слово у него строго и гармонично вязалось с делом: в ту же секунду в руках инженера сверкнул новенький семизарядный браунинг.
— Ну, кто хочет? Подходи!!
Вопрос был праздный, потому что не хотел решительно никто. Наоборот, все отхлынули от предприимчивого инженера и, как теплый квас из откупоренной бутылки, брызнули во все стороны.
* * *
Возвращались обратно в Одессу.
— Господи, — заметил кто-то, — не только наш инженер, но и его шофер не вяжет лыка. Как быть?
— Оставим их здесь. Послушайте, инженер! Вы устали, оставайтесь до завтра, хотите?
— А ты вот этого хочешь?
«Это» — был тот же новенький браунинг, направленный рыжей, чуть-чуть трясущейся рукой в толпу спортсменов.
— Слушайте! Надо отнять у него револьвер… Ведь он нас всех может перестрелять, как куропаток.
— Поп…робуйте, отним…мите, — усмехнулся пьяный, сверкая красными глазками. — Первому, кто подойдет — пуля в глаз.
— Черт с ним, пусть едет.
— И поэ…эду! Ты мне не указ! Зах…хочу и поэ…эду. А? Шофер! Готовь мою машину!
— Хор…шо, — сказал шофер, покачиваясь и совершенно игнорируя хозяйский револьвер. — Готово! Пожалте!
Выехали из Николаева.
Через несколько минут были уже у знаменитого спуска, который так крут, что приходится пустить в ход все тормоза и даже тормозить цепью, что делается только в самых исключительных, опасных случаях…
И вдруг пыхтение и шум моторов покрыл пронзительный пьяный голос:
— Господа! Хотите видеть рекорд? Глядите! Уже! Ставлю всемирный рекорд!!
Инженер вылез из автомобиля (у него был прекрасный 100-сильный Бенц), сел верхом на радиатор и скомандовал шоферу:
— Володя! Шпарь во весь дух.
Общий крик ужаса подавленно прозвенел в воздухе.
— Он с ума сошел!
— Он погибнет!
— Верная смерть!!
— Остановите его! Стащите его с радиатора!
— Кого? — взревел пьяный инженер, весело и грозно оглядывая спутников. — Меня? А это видали? Хотите попробовать?
— Хоть бы он револьвер выронил, — чуть не плакал кто-то.
— Я? Выроню? Нет, брат, я не выроню…
И действительно: хотя инженер сидел на своем радиаторе, как цирковой жокей на крупе лошади — рука его прочно и непоколебимо сжимала рукоятку браунинга.
В это время на сцену впервые выступил Сережа Уточкин, сам влюбленный в разные «рекорды» и сам не щадивший своей головы во многих спортсменских авантюрах.
— В…вот, почему вы, — по обыкновению, заикаясь, начал он, — Почему вы боитесь за него? Он съедет, ей-богу.