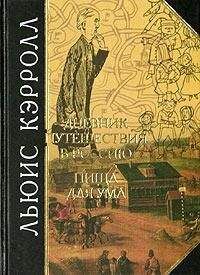После завтрака моя работа началась, и я здесь кратко опишу её.
Снимок N1: Paterfamilias [86]. Этот снимок я желал бы повторить, но все заявили, что вышло очень даже хорошо и у главы семейства «как раз его обычное выражение лица». Неужели и впрямь его обычное выражение таково, словно в горле у него застряла кость, он изо всех сил стремится избежать удушья и от натуги разглядывает кончика своего носа обеими глазищами, или же подобное заявление было призвано приукрасить результат?
Снимок N2: Materfamilias [87]. Усевшись, она сказала нам с жеманной улыбкой, что «в юности очень сильно увлекалась театральными постановками» и что «желает сфотографироваться в образе своей любимой шекспировской героини». Что это за героиня, я, после длительных и лихорадочных размышлений, отчаялся выяснить, так как не ведаю ни одной героини Шекспира, у которой бы осанка, выражающая такую порывистую энергию, сочеталась с полнейшим безразличием лица, или коей подошёл бы костюм, включающий голубое шёлковое платье с перекинутым через одно плечо шарфом горца, кружевной гофрированный воротник времён королевы Елизаветы и охотничий хлыстик.
Снимок N3, 17-я проба. Посадил младенца в профиль. Дождавшись, когда стихло его обычное брыкание, снял крышечку с объектива. Маленький негодник тотчас откинул головку назад, к счастью, всего на дюйм, так как на её пути встал нянин нос. Младенец добился-таки «первой крови» (выражаясь спортивным языком), поэтому ничего удивительного, что фотография зафиксировала два глаза, нечто, отдалённо напоминающее нос, и неестественно широкий рот. Я назвал это снимком анфас и перешёл к
Снимку N4: три молодые девушки, вид у которых такой, словно каким-то образом им, причём троим сразу, влили сильнейшую дозу лекарства, предварительно повязав их собственными волосами, а затвор щёлкнул в тот момент, когда сморщенные после приёма лица ещё не разгладились. Разумеется, я придержал своё мнение при себе, сказал только, что «это напоминает мне изображение трёх Граций», однако моё заявление завершилось невольным стоном, который мне чрезвычайно трудно было выдать за кашель.
Снимок N5. Он должен был бы стать шедевром этого дня — всё семейство, рассаженное обоими родителями с целью изобразить идею радостей семейной жизни вкупе с аллегорией. В намерение входило представить увенчание младенца цветами с помощью соединённых усилий детей, направляемых советами отца под личным надзором матери; одновременно это должно было означать «Победу, передающую свой лавровый венок Невинности, в окружении Решительности, Независимости, Веры, Надежды и Милосердия, содействующих выполнению этой возвышенной миссии, в то время как Мудрость ласково на них глядит и одобрительно улыбается!» Таковым, повторяю, было намерение; результат, на взгляд любого непредубежденного наблюдателя, имел однозначное толкование: младенец в припадке, мать (несомненно, под влиянием ошибочных представлений об основах человеческой анатомии), пытающаяся вернуть его к жизни путём пригибания его макушки до соприкосновения с грудкой; два мальчугана, в предчувствии скорой кончины малютки отрывающие от его волос по локону в память рокового события; две девушки, ожидающие своей очереди на доступ к волосам ребёнка и коротающие время за удушением третьей; и, наконец, папаша, в отчаянии от необычного поведения своей семьи проткнувший себя ножом и нащупывающий рукой свой письменный прибор, чтобы сделать памятную запись.
Всё это время я не имел случая пригласить к аппарату свою Амелию, но в продолжение второго завтрака я улучил-таки момент и, порассуждав о фотографировании вообще, повернулся к ней со словами:
— Перед тем, как стемнеет, мисс Амелия, я надеюсь иметь честь отобразить на негативе вас.
Она же ответила мне с милой улыбкой:
— Конечно, мистер Таббс. Здесь неподалёку есть домик, мне хочется, чтобы вы его сфотографировали после завтрака. Когда вы закончите, я буду в вашем распоряжении.
— И поверьте, негатива у вас будет препорядочно! — встрял этот ужасный капитан Фланаган. — Устроим ему, дорогая Мели?
— Весьма надеюсь, капитан Фланаган, — перебил я его с величайшим достоинством. Но моя вежливость пропала втуне, ибо это животное разразилось громким «о-хо-хо!», так что Амелия и я едва не расхохотались над его глупым поступком. Она, однако, с природным тактом исправила положение, заявив этому медведю:
— Ну-ну, капитан, не будем с ним слишком жестокими!
(Жестокими со мной! Со мной! Благослови тебя Господь, Амелия!)
В этот момент на меня нахлынуло внезапное ощущение счастья, и слёзы навернулись мне на глаза, когда я подумал: «Исполнилась мечта моей жизни! Я сфотографирую Амелию!»
Я и вовсе пал бы на колени, чтобы возблагодарить её, если бы при этом меня не скрыла скатерть и если бы я не знал заранее, насколько трудно бывает после этого вновь принять нормальное положение.
И всё же в конце трапезы я ухватился было за возможность дать выход переполнявшим меня чувствам. Повернувшись к сидевшей рядом Амелии, я едва успел прошептать ей: «В груди, где это сердце, моя дорога...» [88] — но не закончил фразы, так как за столом вдруг воцарилось молчание. С восхитительным присутствием духа Амелия произнесла:
— Ещё пирога, говорите, мистер Таббс? Капитан Фланаган, будьте любезны, отрежьте мистеру Таббсу вон того пирога.
— Его почти не осталось, — сказал капитан, нагнув свою большущую голову почти к самому пирогу. — Я передам ему всё блюдо, хорошо, Мели?
— Не надо, сэр, — вмешался я, бросив на него уничтожающий взгляд, но он только усмехнулся и произнёс:
— Не скромничайте, Таббс, мой мальчик. В кладовке пирогов ещё хватает.
Амелия с беспокойством взглянула на меня, и мне пришлось проглотить гнев — и пирог тоже.
Второй завтрак закончился, и я, получив указания, как добраться до домика, приладил к своей камере накидку, предназначенную для проявления плёнки на открытом воздухе, саму камеру водрузил на плечо и направился к холмам, на которые мне указали.
Моя Амелия сидела за работой у окна, когда я со своим аппаратом проходил мимо; ирландский идиот был подле неё. В ответ на мой исполненный бессмертной любви взгляд она сказала с тревогой:
— Мистер Таббс, вам, наверно, очень тяжело? У вас разве нет мальчика-носильщика?
— Или ослика, — хихикнул капитан.
Я сдержал шаг и круто обернулся, чувствуя, что человеческое достоинство и свобода личности должны отстоять свои права сейчас или никогда. Ей я сказал просто: «Благодарю вас!», послав при этом воздушный поцелуй, затем, вперив взгляд в стоящего тут же идиота, я прошипел сквозь стиснутые зубы:
— Мы ещё встретимся, капитан!
— Надеюсь, Таббс, — ответил безмозглый болван. — Ровно в шесть, за обедом, помните!
Холодная дрожь пронизала меня. Я приложил величайшее усилие, чтобы её побороть, но мне это не удалось. Что ж, я снова приладил свою камеру на плечо и угрюмо зашагал прочь.
Пара шагов, и вот я совладал с собой. Зная, что её взгляд был устремлён на меня, я ступал по гравию упругой поступью. Что за дело было мне в этот момент до всего капитанского племени? Могло ли оно поколебать моё самообладание?
Холм располагался примерно в миле от виллы, поэтому я достиг его усталым и запыхавшимся. Но мысли об Амелии придавали мне сил. Место я выбрал такое, чтобы с него открывался наилучший вид на домик и чтобы можно было также захватить в кадр крестьянина и корову, бросил влюблённый взгляд в направлении отдалённой виллы и, бормоча: «Амелия, всё это ради тебя!», снял колпачок с объектива. Спустя одну минуту и сорок секунд я вновь надел его.
— Дело сделано! — вскричал я в безотчётном порыве. — Амелия, ты моя!
Нетерпеливо, дрожа всем телом, сунул я голову под накидку и приступил к проявке. Деревья несколько размыты — ничего! Ветер их слегка качнул; это не имеет особого значения. Крестьянин? Он сдвинулся на пару дюймов, и я с сожалением обнаружил у него слишком много рук и ног — не страшно! Назовём его пауком или многоножкой. Корова? Нехотя должен признать, что у неё оказалось три головы; хотя такое животное может быть весьма любопытным, оно совершенно не живописно. Зато насчёт домика нельзя было ошибиться, его дымоходы не оставляли желать лучшего, и — «Принимая во внимание всё вместе, — думал я, — Амелия будет...»
Но в этот момент мой внутренний монолог был прерван хлопком по плечу, который к тому же оказался скорее повелительным, чем вежливым. Я вылез из-под накидки (излишне говорить, с каким сдержанным достоинством) и повернулся к чужаку. Это был плотный человек в грубой одежде, с виду омерзительный. Во рту он держал соломинку. Его спутник полностью ему соответствовал.