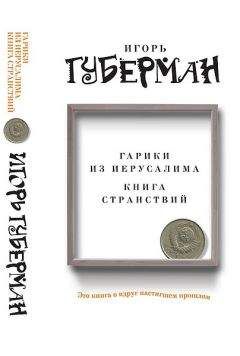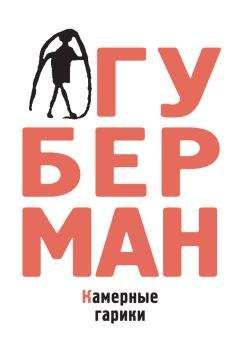Ознакомительная версия.
VI. Кто томим духовной жаждой, тот не жди любви сограждан
Человек – это тайна, в которой
замыкается мира картина,
совмещается фауна с флорой,
сочетаются дуб и скотина.
Взрывы – не случайный в мире гость;
всюду то замедленно, то быстро
воздух накопляет нашу злость,
а она – разыскивает искру.
По странам и векам несется конница,
которая крушит и подчиняет;
но двигатель истории – бессонница
у тех, кто познает и сочиняет.
На безрассудства и оплошности
я рад пустить остаток дней,
но плещет море сытой пошлости
о берег старости моей.
Глядя, как играют дети,
можно быть вполне спокойным,
что вовек на белом свете
не пройдут раздор и войны.
Когда усилия науки
прольют везде елей и мед,
по любопытству и со скуки
все это кто-нибудь взорвет.
Служа истории внимательно,
меняет время цену слова;
сейчас эпоха, где романтика
звучит как дудка крысолова.
Весомы и сильны среда и случай,
но главное – таинственные гены,
и как образованием ни мучай,
от бочек не родятся Диогены.
Бывают лица – сердце тает,
настолько форма их чиста,
и только сверху не хватает
от фиги нежного листа.
Душой своей, отзывчивой и чистой,
других мы одобряем не вполне;
весьма несимпатична в эгоистах
к себе любовь сильнее, чем ко мне.
Когда сидишь в собраньях шумных,
язык пылает и горит;
но люди делятся на умных
и тех, кто много говорит.
Всегда сильней и выше песенник,
и легче жить ему на свете,
в ком веселей и ярче висельник,
всегда таящийся в поэте.
Воспев зачатье и агонию,
и путь меж ними в мироздании,
поэт рожден прозреть гармонию
в любом и всяком прозябании.
В стихах моих не музыка живет,
а шутка, запеченная в банальности,
ложащаяся грелкой на живот,
болящий несварением реальности.
Нельзя не злясь остаться прежним
урчаще булькающим брюхом,
когда соседствуешь с мятежным
смятенно мечущимся духом.
Жрец величав и строг. Он ключ
от тайн, творящихся на свете.
А шут – раскрыт и прост. Как луч,
животворящий тайны эти.
Владыка наш – традиция. А в ней –
свои благословенья и препоны;
неписанные правила сильней,
чем самые свирепые законы.
Несмотря на раздор между нами,
невзирая, что столько нас разных,
в обезьянах срослись мы корнями,
но не все – в человекообразных.
Наука наукой, но есть и приметы;
я твердо приметил сызмальства,
что в годы надежды плодятся поэты,
а в пору гниенья – начальство.
Я повзрослел, когда открыл,
что можно плакать или злиться,
но всюду тьма то харь, то рыл,
а непохожих бьют по лицам.
Жизнь не обходится без сук,
в ней суки с нами пополам,
и если б их не стало вдруг,
пришлось бы ссучиваться нам.
Слишком умных жизнь сама
чешет с двух боков:
горе им и от ума
и от мудаков.
Талант и слеп и слишком тонок,
чтоб жизнь осилить самому,
и хам, стяжатель и подонок
всегда сопутствуют ему.
Когда густеют грязь и мрак,
и всюду крик: «Лови!,
товарищ мой! Не будь дурак,
но смело им слыви.
В эпоху страхов, сыска, рвения –
храни надменность безмятежности;
веревки самосохранения
нам трут и душу и промежности.
Чтоб выжить и прожить на этом свете,
пока земля не свихнута с оси,
держи себя на тройственном запрете:
не бойся, не надейся, не проси.
Добро уныло и занудливо,
и постный вид, и ходит боком,
а зло обильно и причудливо,
со вкусом, запахом и соком.
Пугаясь резких поворотов,
он жил и мыслил прямиком,
и даже в школе идиотов
его считали мудаком.
Чтобы плесень сытой скудости
не ползла цвести в твой дом –
из пруда житейской мудрости
черпай только решетом.
Определениям поэзии
спокон веков потерян счет,
она сечет сердца, как лезвие,
а кровь у автора течет.
Сколь часто тот, чей разум выше,
то прозябал, то просто чах,
имя звук намного тише,
чем если жопа на плечах.
Устройство мироздания жестоко
по прихоти божественной свободы:
убийствами поэтов и пророков
к их духу причащаются народы.
В цветном разноголосом хороводе,
в мелькании различий и примет
есть люди, от которых свет исходит,
и люди, поглощающие свет.
Есть люди: величава и чиста
их личность, когда немы их уста;
но только растворят они уста,
на ум приходят срамные места.
Люби своих друзей, но не греши,
хваля их чересчур или зазря;
не сами по себе мы хороши
а фону из гавна благодаря.
Бесцветен, благонравен и безлик,
я спрятан в скорлупу своей типичности;
безликость есть отсутствие улик
опасного наличия в нас личности.
Властей пронзительное око
отнюдь не давит сферы нижние,
где все, что ярко и глубоко,
свирепо травят сами ближние.
Всегда среди чумы и бедствий
пируют хари вместе с ликами,
и не смолкает смех в соседстве
с неумолкающими криками.
У нищих духом струйка дней
журчит ровней и без осадка,
заботы бедности скудней
богатых трудностей достатка.
В года кошмаров, столь рутинных,
что повседневных, словно бублики,
страшней непуганых кретинов
одни лишь пуганые умники.
Прости, Господь, за сквернословья,
пошли всех благ моим врагам,
пускай не будет нездоровья
ни их копытам, ни рогам.
О чувстве дружбы в рабской доле
сказал прекрасно сам народ:
кого ебет чужое горе,
когда свое невпроворот?
Наши дороги – простор и шоссе,
легок житейский завет:
думай, что хочешь, но делай, как все,
иначе – ров и кювет.
Сквозь вековые непогоды
идет, вершит, берет свое –
дурак, явление природы,
загадка замыслов ее.
Не меряйся сальным затасканным метром
толпы, возглашающей славу и срам,
ведь голос толпы, разносящийся ветром,
сродни испускаемым ею ветрам.
Кто хоть недолго жил в тюрьме,
чей хлеб неволей пах,
те много знают о дерьме
в душевных погребах.
Есть индивиды – их участь сурова,
жизнь их легко увядает;
камень, не брошенный ими в другого,
в почках у них оседает.
Вновь, как поганки в роще мшистой,
всегда внезапны, как нарывы,
везде растут марксималисты
и жаждут жатвы, сея взрывы.
Всегда и всюду тот, кто странен,
кто не со всеми наравне,
нелеп и как бы чужестранен
в своей родимой стороне.
Те души, что с рождения хромые,
врачуются лишь длительным досугом
в местах, где параллельные прямые
навек пересекаются друг с другом.
Чем дряхлый этот раб так удручен?
Его ведь отпустили? Ну и что же.
Теперь он на свободу обречен,
а он уже свободно жить не может.
Если крепнет в нашей стае
климат страха и агрессии,
сразу глупость возрастает
в гомерической прогрессии.
Не гаснет путеводная звезда,
висевшая над разумом и сердцем
тех первых, кто придумал поезда,
пошедшие в Дахау и Освенцим.
Откуда столько псов с кипящей пастью,
я понял за прожитые полвека:
есть холод, согревающийся страстью
охоты на живого человека.
На людях часто отпечатаны
истоки, давшие им вырасти;
есть люди, пламенем зачатые,
а есть рожденные от сырости.
Опять стою, понурив плечи,
не отводя застывших глаз:
как вкус у смерти безупречен
в отборе лучших среди нас!
VII. Увы, но истина – блудница, ни с кем ей долго не лежится
Цель жизни пониманью не дана
и недоступна мысли скоротечной;
даны лишь краски, звуки, письмена
и утоленье смутности сердечной.
Я охладел к научным книжкам
не потому, что стал ленив;
ученья корень горек слишком,
а плод, как правило, червив.
Вырастили вместе свет и мрак
атомного взрыва шампиньон;
Богу сатана совсем не враг,
а соавтор, друг и компаньон.
В цинично-ханжеском столетии
на всем цена и всюду сцена.
Но дом. Но женщина. Но дети.
Но запах сохнущего сена.
Укрывшись лозунгом и флагом,
не зная лени и сонливости,
зло покупает нас то благом,
то пустоцветом справедливости.
В прошлом были те же соль и мыло,
хлеб, вино и запах тополей;
в прошлом только будущее было
радужней, надежней и светлей.
Глубокая видна в природе связь,
основанная Божьей бухгалтерией:
материя от мысли родилась,
а мысль – от спекуляции материей.
Толпа естествоиспытателей
на тайны жизни пялит взоры,
а жизнь их шлет к ебене матери
сквозь их могучие приборы.
Смешно, как тужатся мыслители –
то громогласно, то бесшумно
– забыв, что разум недействителен,
когда действительность безумна.
Власть и деньги, успех, революция,
слава, месть и любви осязаемость –
все мечты обо что-нибудь бьются,
и больнее всего – о сбываемость.
Прошли века, и мы заметили
природы двойственный урок:
когда порочны добродетели,
то добродетелен порок.
Дай голой правды нам, и только!
Нагую истину, да-да!
Но обе, женщины поскольку,
нагие лучше не всегда.
Дорога к истине заказана
не понимающим того,
что суть не просто глубже разума,
но вне возможностей его.
Язык искусства – не залог
общенья скорого и личного,
а лишь попытка. Диалог
немого и косноязычного.
Чем долее наука отмечает
познания успехи сумасшедшие,
тем более колеблясь отвечает,
куда от нас ушли уже ушедшие.
Смущает зря крылатая цитата
юнца, который рифмами влеком:
поэзия должна быть глуповата,
но автор быть не должен мудаком.
Как ни торжествуют зло и свинство,
а надежды теплятся, упорны:
мир спасет святое триединство
образа, гармонии и формы.
Покой и лень душе немыслимы,
Вся жизнь ее – отдача хлопотам
по кройке платья голым истинам,
раздетым разумом и опытом.
Должно быть потому на берегу
топчусь я в недоверии к судьбе,
что в тайне сам себя я берегу
от разочарования в себе.
На собственном горбу и на чужом
я вынянчил понятие простое:
бессмысленно идти на танк с ножом,
но если очень хочется, то стоит.
В духовной жизни я корыстен
и весь пронизан этим чувством:
всегда из двух возможных истин
влекусь я к той, что лучше бюстом.
Пролагатели новых путей
и творцы откровений бессмертных
производят обычно детей
столь же косных, насколько инертных.
Бежишь, почти что настигая,
пыхтишь в одежде лет и знаний,
хохочет истина нагая,
колыша смехом облик задний.
Прекрасна благодушная язвительность,
с которой в завихрениях истории
хохочет бесноватая действительность
над мудрым разумением теории.
В юности умы неосторожны,
знания не сковывает гений,
и лишь по невежеству возможны
птичии полеты обобщений.
Добро так часто неуклюже,
туманно, вяло, половинно,
что всюду делается хуже,
и люди зло винят безвинно.
Навеки в душе моей пятна
остались, как страха посев,
боюсь я всего, что бесплатно
и благостно равно для всех.
Наш ум и задница – товарищи,
хоть их союз не симметричен:
талант нуждается в седалище,
а жопе разум безразличен.
Два смысла в жизни – внутренний и внешний,
у внешнего – дела, семья, успех;
а внутренний – неясный и нездешний –
в ответственности каждого за всех.
Двадцатый век настолько обнажил
конструкции людской несовершенство,
что явно и надолго отложил
надежды на всеобщее блаженство.
Я чертей из тихого омута
знаю лично – страшны их лица;
в самой светлой душе есть комната,
где кромешная тьма клубится.
Наездник, не касавшийся коня,
соитие без общего огня,
дождями обойденная листва –
вот ум, когда в нем нету шутовства.
Подлинное чувство лаконично,
как пургой обветрившийся куст,
истинная страсть косноязычна,
и в постели жалок златоуст.
Признаться в этом странно мне,
поскольку мало в этом чести,
но я с собой наедине глупей,
чем если с кем-то вместе.
Духу погубительны условия
пафоса, почтения, холуйства;
истинные соки богословия –
ересь, атеизм и богохульство.
Только в мерзкой трясине по шею,
на непрочности зыбкого дна,
в буднях бедствий, тревог и лишений
чувство счастья дается сполна.
Наука в нас изменит все, что нужно,
и всех усовершенствует вполне,
мы станем добродетельно и дружно
блаженствовать – как мухи на гавне.
Живи и пой. Спешить не надо.
Природный тонок механизм:
любое зло – своим же ядом
свой отравляет организм.
Нашей творческой мысли затеи
неразрывны с дыханьем расплаты;
сотворяют огонь – прометеи,
применяют огонь – геростраты.
Вновь закат разметался пожаром –
это ангел на Божьем дворе
жжет охапку дневных наших жалоб.
А ночные он жжет на заре.
Владыка и кумир вселенской черни
с чарующей, волшебной простотой
убил фольклор, отнял досуг вечерний
и души нам полощет пустотой.
Высшая у жизни драгоценность –
дух незатухающих сомнений,
низменному ближе неизменность,
Богу – постоянство изменений.
Мудрость Бога учла заранее
пользу вечного единения:
где блаженствует змей познания,
там свирепствует червь сомнения.
Сегодня я далек от осуждений
промчавшейся по веку бури грозной,
эпоха грандиозных заблуждений
останется эпохой грандиозной.
Во всех делах, где ум успешливый
победу праздновать спешит,
он ловит грустный и усмешливый
взгляд затаившейся души.
На житейских внезапных экзаменах,
где решенья – крутые и спешные,
очень часто разумных и праведных
посрамляют безумцы и грешные.
Я чужд надменной укоризне,
весьма прекрасна жизнь того,
кто обретает смысл жизни
в напрасных поисках его.
Слова – лишь символы и знаки
того ручья с бездонным дном,
который в нас течет во мраке
и о совсем журчит ином.
Растут познания ступени,
и есть на каждой, как всегда,
и вечных двигателей тени,
и призрак Вечного Жида.
Наш век машину думать наловчил,
и мысли в ней густеют что ни час;
век скорости – ходить нас отучил;
век мысли надвигается на нас.
Нам глубь веков уже видна
неразличимою детально,
и лишь историку дана
возможность врать документально.
Чем у идеи вид проворней,
тем зорче бдительность во мне:
ведь у идей всегда есть корни,
а корни могут быть в гавне.
Всю жизнь готов дробить я камни,
пока семью кормить пригоден;
свобода вовсе не нужна мне,
но надо знать, что я свободен.
Науку развивая, мы спешим
к сиянию таких ее вершин,
что дряхлый мой сосед-гермафродит
на днях себе такого же родит.
В толпе прельстительных идей
и чистых мыслей благородных
полно пленительных блядей,
легко доступных, но бесплодных.
Нету в этой жизни виноватых,
тьма находит вдруг на государство,
и ликуют орды бесноватых,
и бессильно всякое лекарство.
Творчеству полезны тупики:
боли и бессилия ожог
разуму и страху вопреки
душу вынуждают на прыжок.
Мы тревожны, как зябкие зяблики,
жить уверенно нету в нас сил:
червь сомнения жил, видно, в яблоке,
что когда-то Адам надкусил.
Найдя предлог для диалога,
– Как ты сварил такой бульон?
– спрошу я вежливо у Бога.
– По пьянке, – грустно скажет Он.
Уйду навсегда в никуда и нигде,
а все, что копил и вынашивал,
миг отразится в текучей воде
проточного времени нашего.
О жизни за гробом забота
совсем не терзает меня;
вливаясь в извечное что-то,
уже это буду не я.
VIII. Счастливые потом всегда рыдают, что вовремя часов не наблюдают
Ознакомительная версия.