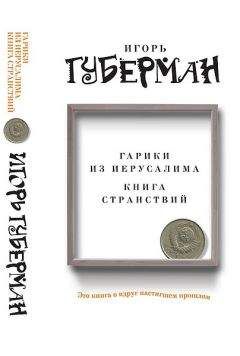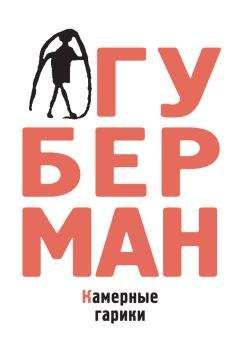Ознакомительная версия.
VIII. Счастливые потом всегда рыдают, что вовремя часов не наблюдают
Когда в глазах темно от книг
сажусь делить бутыль с друзьями;
блаженна жизнь – летящий миг
между двумя небытиями.
Я враг дискуссий и собраний,
и в спорах слова не прошу;
имея истину в кармане,
в другом закуску я ношу.
Когда весна, теплом дразня,
скользит по мне горячим глазом,
ужасно жаль мне, что нельзя
залечь на две кровати разом.
Покуда я у жизни – смысла
искал по книгам днем с огнем,
вино во мне слегка прокисло,
и стало меньше смысла в нем.
Зря и глупо иные находят,
что ученье – пустяк безразличный:
человек через школу проходит
из родильного дома в публичный.
Не знаю лучших я затей
среди вселенской тихой грусти,
чем полусумраке – детей
искать в какой-нибудь капусте.
Дымись, покуда не погас,
и пусть волнуются придурки –
когда судьба докурит нас,
куда швырнет она окурки.
Из лет, надеждами богатых,
навстречу ветру и волне
мы выплываем на фрегатах,
а доплываем – на бревне.
Подростки мечтают о буре
в зеленой наивной мятежности,
а взрослых влечет к авантюре
цветение первой несвежести.
Надо жить наобум, напролом,
наугад и на ощупь во мгле,
ибо нынче сидим за столом,
а назавтра лежим на столе.
Анахорет и нелюдим
и боязливец неудачи
приходит цел и невредим
к покойной старости собачей.
Какое счастье, что вокруг
живут просторно и привольно
слова и запах, цвет и звук,
фактура, линия и форма.
Все умные задним умом,
кто бил себя в лоб напоследок,
печальней грустят о былом,
чем те, кто и задним некрепок.
В столетии насыщенном тревогой,
живу, от наслаждения урча,
пугаем то всемирной синангогой,
то ржавью пролетарского меча.
Я жизнь люблю, вертящуюся юрко
в сегодняшнем пространстве и моменте,
моя живая трепаная шкурка
милее мне цветов на постаменте.
По времени скользя и спотыкаясь,
мы шьемся сквозь минуты и года,
и нежную застенчивую завязь
доводим до трухлявого плода.
Час нашей смерти неминуем,
а потому не позабудь
себя оставить в чем-нибудь
умом, руками или хуем.
С годами тело тяжелей,
хотя и пьем из меньших кружек,
и высох напрочь дивный клей,
которым клеили подружек.
Гори огнем, покуда молод,
подругу грей и пей за двух,
незримо лижет вечный холод
и тленный член, и пленный дух.
Кто несуетливо и беспечно
время проводил и коротал,
к старости о жизни знает нечто
большее, чем тот, кто процветал.
Ровесник мой, засосан бытом,
плюет на вешние луга,
и если бьет когда копытом,
то только в гневе на рога.
Сложилось нынче на потеху,
что я, стареющий еврей,
вдруг отыскал свой ключ к успеху,
не не нашел к нему дверей.
Возраст одолев, гляжу я сверху:
все мираж, иллюзия, химера;
жизнь моя – возведенная церковь,
из которой выветрилась вера.
Не грусти, что мы сохнем, старик,
мир останется сочным и дерзким;
всюду слышится девичий крик,
через миг становящийся женским.
Деньгами, славой и могуществом
пренебрегал сей прах и тлен;
из недвижимого имущества
имел покойник только член.
Счет лет ведут календари
морщинами подруг,
и мы стареем – изнутри,
снаружи и вокруг.
С каждым годом суетней планета,
с каждым днем кишение быстрее,
губят вырастающих поэтов
гонор, гонорар и гонорея.
В нашем климате,
слезном и сопельном
исчезает, почти забываемый,
оптимизм, изумительный опиум,
из себя самого добываемый.
Бесплоден, кто в пОру цветения
обидчив, уныл и сердит;
гниение – форма горения,
но только ужасно смердит.
Вот человек. Он всем доволен.
И тут берет его в тиски
потребность в горечи и боли,
и жажда грусти и тоски.
Люблю апрель – снега прокисли,
журчит капель, слезой звеня,
и в голову приходят мысли
и не находят в ней меня.
Когда тулуп мой был бараном
и ублажал младых овечек,
я тоже спать ложился рано,
чтобы домой успеть под вечер.
Не всякий миг пружинит в нас
готовность к подвигам и бедам,
и часто мы свой звездный час
проводим, сидя за обедом.
Заранее думай о том,
куда ты спешишь, мельтеша:
у крепкого задним умом и жопа болит,
и душа.
Все лучшее, что делается нами
весенней созидательной порой,
творится не тяжелыми трудами,
а легкою искрящейся игрой.
О чем ты плачешь, осень бедная?
Больна душа и пуст карман,
а на пороге – немочь бледная
и склеротический туман.
Взросление – пожизненный урок
умения творить посильный пир,
и те, кто не построил свой мирок,
охотно перестраивают мир.
Чтобы в этой жизни горемычной
быть милей удаче вероятной,
молодость должна быть энергичной,
старость, по возможности – опрятной.
Как счастье ни проси и ни зови,
подачки его скупы или круты:
дни творчества, мгновения любви,
надежды и доверия минуты.
Мы сами вяжем в узел
нити узора жизни в мироздании,
причина множества событий –
в готовном общем ожидании.
Чтоб жизнь испепелилась не напрасно,
не мешкай прожигать ее дотла;
никто не знает час, когда пространство
разделит наши души и тела.
Теперь я понимаю очень ясно,
и чувствую и вижу очень зримо:
неважно, что мгновение прекрасно,
а важно, что оно неповторимо.
Счастье – что подвижны ум и тело,
что спешит удача за невзгодой,
счастье – осознание предела,
данного нам веком и природой.
Такие реки тьмы текут бурливо
под коркой соблюдаемой морали,
что вечно есть угроза их разлива
на площади, мосты и магистрали.
Любой из нас чертой неровной
на две личины разделен:
и каждый – Каин безусловный,
и в то же время – Авель он.
Беспечны, покуда безоблачен день,
мы дорого платим чуть позже за это,
а тьма, наползая сначала, как тень,
способна сгущаться со скоростью света.
Год приходит, и год уходит,
раздробляясь на брызги дней,
раньше не было нас в природе,
а потом нас не будет в ней.
Наш путь из ниоткуда в никуда –
такое краткосрочное событие,
что жизни остается лишь черта
меж датами прибытия-убытия.
До пословицы смысла скрытого
только с опытом доживаешь:
двух небитых дают за битого.
ибо битого – хер поймаешь.
Как молод я был! Как летал я во сне!
В года эти нету возврата.
Какие способности спали во мне!
Проснулись и смылись куда-то.
Везде долги: мужской, супружеский,
гражданский, родственный и дружеский,
долг чести, совести, пера,
и кредиторов до хера.
Вокруг секунд каленья белого –
года безликости рябой;
часть не бывает больше целого,
но красит целое собой.
Мне жаль потерь и больно от разлук,
но я не сожалею, оглянувшись,
о том далеком прошлом, где споткнувшись,
я будущее выронил из рук.
Сперва, резвясь на жизненном просторе,
словно молодость сама;
умнеем после первого же горя,
а после терпим горе от ума.
Ах, юность, юность!
Ради юбки самоотверженно и вдруг
душа кидается в поступки,
руководимые из брюк.
Живи светло и безрассудно,
поскольку в старости паскудной
под нас подсунутое судно –
помеха жизни безрассудной.
Эпохи крупных ослеплений недолго
тянутся на свете,
залившись кровью поколений,
рожденных жить в эпохи эти.
За плечами с пустым мешком,
только хлеб там неся и воду,
в жалком рубище и пешком
есть надежда найти свободу.
Ты пишешь мне, что все темно и плохо,
Все жалким стало, вянущим и слабым;
но, друг мой, не в ответе же эпоха
за то, что ты устал ходить по бабам.
Наша старость – это ноги в тепле,
это разум – но похмельный, обратный,
тише музыка и счет на столе,
а размер его – всегда неоплатный.
Азарт живых переживаний
подвержен таянью – увы! –
как пыл наивных упований,
как верность ветреной вдовы.
Когда время, годами шурша,
достигает границы своей,
на лице проступает душа,
и лицо освещается ей.
Есть люди, провалившие экзамен
житейских переплетов и контузий,
висят у них под мутными глазами
мешки из-под амбиций и иллюзий.
Не тужи, дружок,
что прожил ты свой век не в лучшем виде:
все про всех одно и то же
говорят на панихиде.
Я жизнь свою листал сегодня ночью,
в ней лучшие года ища пристрастно,
и видел несомненно и воочию,
что лучшие – когда я жил опасно.
Однажды на улице сердце прихватит,
наполнится звоном и тьмой голова,
и кто-то неловкий в несвежем халате
последние скажет пустые слова.
IX. Увы, но улучшить бюджет нельзя, не запачкав манжет
Ознакомительная версия.