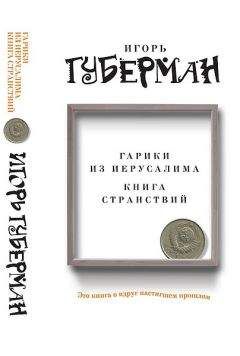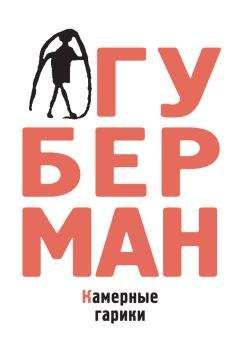Ознакомительная версия.
VII. Увы, но истина – блудница, ни с кем ей долго не лежится
Цель жизни пониманью не дана
и недоступна мысли скоротечной;
даны лишь краски, звуки, письмена
и утоленье смутности сердечной.
Я охладел к научным книжкам
не потому, что стал ленив;
ученья корень горек слишком,
а плод, как правило, червив.
Вырастили вместе свет и мрак
атомного взрыва шампиньон;
Богу сатана совсем не враг,
а соавтор, друг и компаньон.
В цинично-ханжеском столетии
на всем цена и всюду сцена.
Но дом. Но женщина. Но дети.
Но запах сохнущего сена.
Укрывшись лозунгом и флагом,
не зная лени и сонливости,
зло покупает нас то благом,
то пустоцветом справедливости.
В прошлом были те же соль и мыло,
хлеб, вино и запах тополей;
в прошлом только будущее было
радужней, надежней и светлей.
Глубокая видна в природе связь,
основанная Божьей бухгалтерией:
материя от мысли родилась,
а мысль – от спекуляции материей.
Толпа естествоиспытателей
на тайны жизни пялит взоры,
а жизнь их шлет к ебене матери
сквозь их могучие приборы.
Смешно, как тужатся мыслители –
то громогласно, то бесшумно
– забыв, что разум недействителен,
когда действительность безумна.
Власть и деньги, успех, революция,
слава, месть и любви осязаемость –
все мечты обо что-нибудь бьются,
и больнее всего – о сбываемость.
Прошли века, и мы заметили
природы двойственный урок:
когда порочны добродетели,
то добродетелен порок.
Дай голой правды нам, и только!
Нагую истину, да-да!
Но обе, женщины поскольку,
нагие лучше не всегда.
Дорога к истине заказана
не понимающим того,
что суть не просто глубже разума,
но вне возможностей его.
Язык искусства – не залог
общенья скорого и личного,
а лишь попытка. Диалог
немого и косноязычного.
Чем долее наука отмечает
познания успехи сумасшедшие,
тем более колеблясь отвечает,
куда от нас ушли уже ушедшие.
Смущает зря крылатая цитата
юнца, который рифмами влеком:
поэзия должна быть глуповата,
но автор быть не должен мудаком.
Как ни торжествуют зло и свинство,
а надежды теплятся, упорны:
мир спасет святое триединство
образа, гармонии и формы.
Покой и лень душе немыслимы,
Вся жизнь ее – отдача хлопотам
по кройке платья голым истинам,
раздетым разумом и опытом.
Должно быть потому на берегу
топчусь я в недоверии к судьбе,
что в тайне сам себя я берегу
от разочарования в себе.
На собственном горбу и на чужом
я вынянчил понятие простое:
бессмысленно идти на танк с ножом,
но если очень хочется, то стоит.
В духовной жизни я корыстен
и весь пронизан этим чувством:
всегда из двух возможных истин
влекусь я к той, что лучше бюстом.
Пролагатели новых путей
и творцы откровений бессмертных
производят обычно детей
столь же косных, насколько инертных.
Бежишь, почти что настигая,
пыхтишь в одежде лет и знаний,
хохочет истина нагая,
колыша смехом облик задний.
Прекрасна благодушная язвительность,
с которой в завихрениях истории
хохочет бесноватая действительность
над мудрым разумением теории.
В юности умы неосторожны,
знания не сковывает гений,
и лишь по невежеству возможны
птичии полеты обобщений.
Добро так часто неуклюже,
туманно, вяло, половинно,
что всюду делается хуже,
и люди зло винят безвинно.
Навеки в душе моей пятна
остались, как страха посев,
боюсь я всего, что бесплатно
и благостно равно для всех.
Наш ум и задница – товарищи,
хоть их союз не симметричен:
талант нуждается в седалище,
а жопе разум безразличен.
Два смысла в жизни – внутренний и внешний,
у внешнего – дела, семья, успех;
а внутренний – неясный и нездешний –
в ответственности каждого за всех.
Двадцатый век настолько обнажил
конструкции людской несовершенство,
что явно и надолго отложил
надежды на всеобщее блаженство.
Я чертей из тихого омута
знаю лично – страшны их лица;
в самой светлой душе есть комната,
где кромешная тьма клубится.
Наездник, не касавшийся коня,
соитие без общего огня,
дождями обойденная листва –
вот ум, когда в нем нету шутовства.
Подлинное чувство лаконично,
как пургой обветрившийся куст,
истинная страсть косноязычна,
и в постели жалок златоуст.
Признаться в этом странно мне,
поскольку мало в этом чести,
но я с собой наедине глупей,
чем если с кем-то вместе.
Духу погубительны условия
пафоса, почтения, холуйства;
истинные соки богословия –
ересь, атеизм и богохульство.
Только в мерзкой трясине по шею,
на непрочности зыбкого дна,
в буднях бедствий, тревог и лишений
чувство счастья дается сполна.
Наука в нас изменит все, что нужно,
и всех усовершенствует вполне,
мы станем добродетельно и дружно
блаженствовать – как мухи на гавне.
Живи и пой. Спешить не надо.
Природный тонок механизм:
любое зло – своим же ядом
свой отравляет организм.
Нашей творческой мысли затеи
неразрывны с дыханьем расплаты;
сотворяют огонь – прометеи,
применяют огонь – геростраты.
Вновь закат разметался пожаром –
это ангел на Божьем дворе
жжет охапку дневных наших жалоб.
А ночные он жжет на заре.
Владыка и кумир вселенской черни
с чарующей, волшебной простотой
убил фольклор, отнял досуг вечерний
и души нам полощет пустотой.
Высшая у жизни драгоценность –
дух незатухающих сомнений,
низменному ближе неизменность,
Богу – постоянство изменений.
Мудрость Бога учла заранее
пользу вечного единения:
где блаженствует змей познания,
там свирепствует червь сомнения.
Сегодня я далек от осуждений
промчавшейся по веку бури грозной,
эпоха грандиозных заблуждений
останется эпохой грандиозной.
Во всех делах, где ум успешливый
победу праздновать спешит,
он ловит грустный и усмешливый
взгляд затаившейся души.
На житейских внезапных экзаменах,
где решенья – крутые и спешные,
очень часто разумных и праведных
посрамляют безумцы и грешные.
Я чужд надменной укоризне,
весьма прекрасна жизнь того,
кто обретает смысл жизни
в напрасных поисках его.
Слова – лишь символы и знаки
того ручья с бездонным дном,
который в нас течет во мраке
и о совсем журчит ином.
Растут познания ступени,
и есть на каждой, как всегда,
и вечных двигателей тени,
и призрак Вечного Жида.
Наш век машину думать наловчил,
и мысли в ней густеют что ни час;
век скорости – ходить нас отучил;
век мысли надвигается на нас.
Нам глубь веков уже видна
неразличимою детально,
и лишь историку дана
возможность врать документально.
Чем у идеи вид проворней,
тем зорче бдительность во мне:
ведь у идей всегда есть корни,
а корни могут быть в гавне.
Всю жизнь готов дробить я камни,
пока семью кормить пригоден;
свобода вовсе не нужна мне,
но надо знать, что я свободен.
Науку развивая, мы спешим
к сиянию таких ее вершин,
что дряхлый мой сосед-гермафродит
на днях себе такого же родит.
В толпе прельстительных идей
и чистых мыслей благородных
полно пленительных блядей,
легко доступных, но бесплодных.
Нету в этой жизни виноватых,
тьма находит вдруг на государство,
и ликуют орды бесноватых,
и бессильно всякое лекарство.
Творчеству полезны тупики:
боли и бессилия ожог
разуму и страху вопреки
душу вынуждают на прыжок.
Мы тревожны, как зябкие зяблики,
жить уверенно нету в нас сил:
червь сомнения жил, видно, в яблоке,
что когда-то Адам надкусил.
Найдя предлог для диалога,
– Как ты сварил такой бульон?
– спрошу я вежливо у Бога.
– По пьянке, – грустно скажет Он.
Уйду навсегда в никуда и нигде,
а все, что копил и вынашивал,
миг отразится в текучей воде
проточного времени нашего.
О жизни за гробом забота
совсем не терзает меня;
вливаясь в извечное что-то,
уже это буду не я.
VIII. Счастливые потом всегда рыдают, что вовремя часов не наблюдают
Когда в глазах темно от книг
сажусь делить бутыль с друзьями;
блаженна жизнь – летящий миг
между двумя небытиями.
Я враг дискуссий и собраний,
и в спорах слова не прошу;
имея истину в кармане,
в другом закуску я ношу.
Когда весна, теплом дразня,
скользит по мне горячим глазом,
ужасно жаль мне, что нельзя
залечь на две кровати разом.
Покуда я у жизни – смысла
искал по книгам днем с огнем,
вино во мне слегка прокисло,
и стало меньше смысла в нем.
Зря и глупо иные находят,
что ученье – пустяк безразличный:
человек через школу проходит
из родильного дома в публичный.
Не знаю лучших я затей
среди вселенской тихой грусти,
чем полусумраке – детей
искать в какой-нибудь капусте.
Дымись, покуда не погас,
и пусть волнуются придурки –
когда судьба докурит нас,
куда швырнет она окурки.
Из лет, надеждами богатых,
навстречу ветру и волне
мы выплываем на фрегатах,
а доплываем – на бревне.
Подростки мечтают о буре
в зеленой наивной мятежности,
а взрослых влечет к авантюре
цветение первой несвежести.
Надо жить наобум, напролом,
наугад и на ощупь во мгле,
ибо нынче сидим за столом,
а назавтра лежим на столе.
Анахорет и нелюдим
и боязливец неудачи
приходит цел и невредим
к покойной старости собачей.
Какое счастье, что вокруг
живут просторно и привольно
слова и запах, цвет и звук,
фактура, линия и форма.
Все умные задним умом,
кто бил себя в лоб напоследок,
печальней грустят о былом,
чем те, кто и задним некрепок.
В столетии насыщенном тревогой,
живу, от наслаждения урча,
пугаем то всемирной синангогой,
то ржавью пролетарского меча.
Я жизнь люблю, вертящуюся юрко
в сегодняшнем пространстве и моменте,
моя живая трепаная шкурка
милее мне цветов на постаменте.
По времени скользя и спотыкаясь,
мы шьемся сквозь минуты и года,
и нежную застенчивую завязь
доводим до трухлявого плода.
Час нашей смерти неминуем,
а потому не позабудь
себя оставить в чем-нибудь
умом, руками или хуем.
С годами тело тяжелей,
хотя и пьем из меньших кружек,
и высох напрочь дивный клей,
которым клеили подружек.
Гори огнем, покуда молод,
подругу грей и пей за двух,
незримо лижет вечный холод
и тленный член, и пленный дух.
Кто несуетливо и беспечно
время проводил и коротал,
к старости о жизни знает нечто
большее, чем тот, кто процветал.
Ровесник мой, засосан бытом,
плюет на вешние луга,
и если бьет когда копытом,
то только в гневе на рога.
Сложилось нынче на потеху,
что я, стареющий еврей,
вдруг отыскал свой ключ к успеху,
не не нашел к нему дверей.
Возраст одолев, гляжу я сверху:
все мираж, иллюзия, химера;
жизнь моя – возведенная церковь,
из которой выветрилась вера.
Не грусти, что мы сохнем, старик,
мир останется сочным и дерзким;
всюду слышится девичий крик,
через миг становящийся женским.
Деньгами, славой и могуществом
пренебрегал сей прах и тлен;
из недвижимого имущества
имел покойник только член.
Счет лет ведут календари
морщинами подруг,
и мы стареем – изнутри,
снаружи и вокруг.
С каждым годом суетней планета,
с каждым днем кишение быстрее,
губят вырастающих поэтов
гонор, гонорар и гонорея.
В нашем климате,
слезном и сопельном
исчезает, почти забываемый,
оптимизм, изумительный опиум,
из себя самого добываемый.
Бесплоден, кто в пОру цветения
обидчив, уныл и сердит;
гниение – форма горения,
но только ужасно смердит.
Вот человек. Он всем доволен.
И тут берет его в тиски
потребность в горечи и боли,
и жажда грусти и тоски.
Люблю апрель – снега прокисли,
журчит капель, слезой звеня,
и в голову приходят мысли
и не находят в ней меня.
Когда тулуп мой был бараном
и ублажал младых овечек,
я тоже спать ложился рано,
чтобы домой успеть под вечер.
Не всякий миг пружинит в нас
готовность к подвигам и бедам,
и часто мы свой звездный час
проводим, сидя за обедом.
Заранее думай о том,
куда ты спешишь, мельтеша:
у крепкого задним умом и жопа болит,
и душа.
Все лучшее, что делается нами
весенней созидательной порой,
творится не тяжелыми трудами,
а легкою искрящейся игрой.
О чем ты плачешь, осень бедная?
Больна душа и пуст карман,
а на пороге – немочь бледная
и склеротический туман.
Взросление – пожизненный урок
умения творить посильный пир,
и те, кто не построил свой мирок,
охотно перестраивают мир.
Чтобы в этой жизни горемычной
быть милей удаче вероятной,
молодость должна быть энергичной,
старость, по возможности – опрятной.
Как счастье ни проси и ни зови,
подачки его скупы или круты:
дни творчества, мгновения любви,
надежды и доверия минуты.
Мы сами вяжем в узел
нити узора жизни в мироздании,
причина множества событий –
в готовном общем ожидании.
Чтоб жизнь испепелилась не напрасно,
не мешкай прожигать ее дотла;
никто не знает час, когда пространство
разделит наши души и тела.
Теперь я понимаю очень ясно,
и чувствую и вижу очень зримо:
неважно, что мгновение прекрасно,
а важно, что оно неповторимо.
Счастье – что подвижны ум и тело,
что спешит удача за невзгодой,
счастье – осознание предела,
данного нам веком и природой.
Такие реки тьмы текут бурливо
под коркой соблюдаемой морали,
что вечно есть угроза их разлива
на площади, мосты и магистрали.
Любой из нас чертой неровной
на две личины разделен:
и каждый – Каин безусловный,
и в то же время – Авель он.
Беспечны, покуда безоблачен день,
мы дорого платим чуть позже за это,
а тьма, наползая сначала, как тень,
способна сгущаться со скоростью света.
Год приходит, и год уходит,
раздробляясь на брызги дней,
раньше не было нас в природе,
а потом нас не будет в ней.
Наш путь из ниоткуда в никуда –
такое краткосрочное событие,
что жизни остается лишь черта
меж датами прибытия-убытия.
До пословицы смысла скрытого
только с опытом доживаешь:
двух небитых дают за битого.
ибо битого – хер поймаешь.
Как молод я был! Как летал я во сне!
В года эти нету возврата.
Какие способности спали во мне!
Проснулись и смылись куда-то.
Везде долги: мужской, супружеский,
гражданский, родственный и дружеский,
долг чести, совести, пера,
и кредиторов до хера.
Вокруг секунд каленья белого –
года безликости рябой;
часть не бывает больше целого,
но красит целое собой.
Мне жаль потерь и больно от разлук,
но я не сожалею, оглянувшись,
о том далеком прошлом, где споткнувшись,
я будущее выронил из рук.
Сперва, резвясь на жизненном просторе,
словно молодость сама;
умнеем после первого же горя,
а после терпим горе от ума.
Ах, юность, юность!
Ради юбки самоотверженно и вдруг
душа кидается в поступки,
руководимые из брюк.
Живи светло и безрассудно,
поскольку в старости паскудной
под нас подсунутое судно –
помеха жизни безрассудной.
Эпохи крупных ослеплений недолго
тянутся на свете,
залившись кровью поколений,
рожденных жить в эпохи эти.
За плечами с пустым мешком,
только хлеб там неся и воду,
в жалком рубище и пешком
есть надежда найти свободу.
Ты пишешь мне, что все темно и плохо,
Все жалким стало, вянущим и слабым;
но, друг мой, не в ответе же эпоха
за то, что ты устал ходить по бабам.
Наша старость – это ноги в тепле,
это разум – но похмельный, обратный,
тише музыка и счет на столе,
а размер его – всегда неоплатный.
Азарт живых переживаний
подвержен таянью – увы! –
как пыл наивных упований,
как верность ветреной вдовы.
Когда время, годами шурша,
достигает границы своей,
на лице проступает душа,
и лицо освещается ей.
Есть люди, провалившие экзамен
житейских переплетов и контузий,
висят у них под мутными глазами
мешки из-под амбиций и иллюзий.
Не тужи, дружок,
что прожил ты свой век не в лучшем виде:
все про всех одно и то же
говорят на панихиде.
Я жизнь свою листал сегодня ночью,
в ней лучшие года ища пристрастно,
и видел несомненно и воочию,
что лучшие – когда я жил опасно.
Однажды на улице сердце прихватит,
наполнится звоном и тьмой голова,
и кто-то неловкий в несвежем халате
последние скажет пустые слова.
IX. Увы, но улучшить бюджет нельзя, не запачкав манжет
Ознакомительная версия.