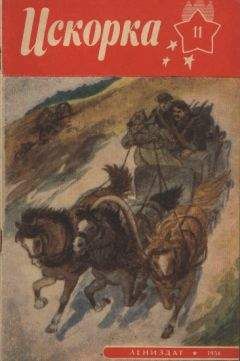Шнейдер Виктор & Гречишкин Кирилл
Акынская песня с прологом и эпилогом
Виктор Шнейдер, Кирилл Гречишкин
Акынская песня с прологом и эпилогом
Жизнь - театр. Люди в нем - актеры,
И каждый не одну играет роль.
В. Шекспир. Венецианский купец.
За то и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежд убьет их и беспечность глупцов погубит их.
Книга притчей царя Соломона.
Пролог
Опять весь мир вокруг - актеры,
А мы с тобой - простые зрители.
М. Щербаков.
Случилось так, что мы - Шнейдер Виктор Миронович и Гречишкин Кирилл Сергеевич - наскребли денег всего на одну кружку пива. Распивать ее было бы смешно и глупо, и мы просто стали смотреть сквозь нее на мир. Преломляясь на ее гранях, все наши знакомые, друзья, пейзажи и события предстали перед нами в несколько новом виде.
И мы сказали: напишем повесть. Нет, даже не повесть, а так - акынскую песню, девиз которой - что вижу, о том пою.
И мы сказали: пусть не будет в ней вымышленных персонажей, но пусть герои не будут и двойниками своих прототипов.
И мы сказали: в нашей повести нет места политике.
Но мы сказали и: все произойдет за месяц до танков.
И еще мы сказали: за работу.
И поставили в центр повествования нашу пивную кружку.
Нам было смешно, пока мы писали.
Нам было грустно, когда мы читали.
Нам было страшно, когда стали сбываться разные придуманные нами эпизоды.
Но даже когда почти все сбылось, мы собрались, чтобы дописать последнюю главу. И один из нас сказал другому, протягивая гитару: "Сыграй - лучше думается. "
Задребезжали струны...
- 1
В доме шло веселье...
М. Щербаков.
Задребезжали струны. Аркаша вышел, почти не демонстративно, и стал растапливать печку. У него, разумеется, ничего не получилось, но первый блин - всегда комом, так что хорошо еще, что не сгорела вся дача. Промучившись с дровами несколько минут, он пошел звать на подмогу Сида. Сид с кислой миной курил на крыльце. Ветер, такой злой, что холодно было даже деревьям, продувал его насквозь. Аркашу пробрал мороз от одного вида этого посиневшего лица и рук...
- Не холодно?
Сид, не поворачиваясь к Аркаше, пожал плечами.
Из-за времянки появился Барковский:
- Сид, хадзиме!
Не вынимая сигареты изо рта, тот перемахнул через перила, поклонился и встал в стойку. В ожидании потехи на крыльце столпились девицы.
Схватка длилась не более минуты.
- Матэ!
- Суру матэ! - что в переводе, очевидно, означало: "Ладно, пошли в дом, простудимся. "
Тем временем за стенкой Санек запел. Пел он отвратительно - фальшиво, скрипучим голосом, а играть и совсем не умел. Но репертуар у него был хороший - Окуджава, Галич, Щербаков, - и исполнял он его с душой, понимал, о чем эта песня. И о чем бы она ни была - непременно о себе и "о нас, сволочах":
Ах, оставьте вашу скуку,
ваши нудные разговоры, снобизм и напускную зевоту. Gaudeamus! Веселитесь, пока молоды! Что вас заботит? Заморочки в институте? Двухчасовые очереди к пустым прилавкам? Слухи о погромах?
Я не верю в вашу муку...
... Повернитесь вы к окошку,
Там...
чудесный пейзаж, великолепная погода... Чего еще нужно? Но
... уходит понемножку
Восемнадцатый февраль.
И не февраль никакой, а жизнь. Жизнь уходит. Месяц за месяцем, день за днем... Какие наши годы? А сколько уже потеряно:
Я скатился со ступенек
Был букет, остался веник.
Был отец - осталась память. Были мечты о биофаке и высокой науке остались они же, плюс ненавистный технический вуз. Был Джексон. От него осталась песня - вот эта, про восемнадцатый февраль, да та, которой он как раз его - восемнадцатый - и дарил. Что ж, мадам,
Вновь меня сшибает с круга,
Восемнадцатой подругой
Вы мне станете едва ль,
да и ему не стали. Только Джексону - потому что у него это место давно занято, разве что сто восемнадцатой, если пожелаете... А я вот как раз наоборот - не набрал предыдущих семнадцати. Но я отрабатываю, тороплюсь. То же и в остальном. Gaudeamus! Веселюсь, пока молод!
Вот такой не по злобе я...
Хотя противно все это, если посмотреть. И тошно - что
... прикинулся плебеем,
Романтичный, как Версаль.
А тонуть я буду в спирте...
Это, видимо, единственное спасение. Хотя, конечно, утонуть себе не позволю... Да и что это я, в самом деле? Жизнь прекрасна. Способный студент, удачливый, неглупый, такие друзья, семья...
А зачем же нам тоска-то?
А весна уже близка так...
Это я от вас, видно, заразился. Сидите такие скучные - аж сердце кровью обливается, но
Я все раны залатаю,
Я растаю, пролетая...
По-ле-чу-у! В неведомые дали полечу, где никто-то меня не знает... А может, туда, где Джексон. Там тепло, апельсины, биофак, высокая наука. А пока, пусть и в октябре, раз уж на дворе осень,
Я дарю вам, золотая,
Восемнадцатый февраль.
- Так выпьем за Джексона!
Его поняли. И поддержали.
- За Джексона! Стоя! До дна!
Хотя он, конечно, собака, и недостоин, и кому он там нужен, кто его там будет любить в десятую часть того, как здесь? Там даже бабы не такие. Везде одинаковые, а там - другие... Зато противогазы бесплатно выдают...
И тут из маленькой комнаты появляется Сема (как он в ней очутился-то? ).
Противогазы - это ничего. Это достать можно. Совсем недорого. У него есть знакомый в Нарьян-Маре, и через него... Только он (в смысле, не знакомый, а сам Сэм) не понимает, зачем они вам понадобились? Это не товар. Так что он бы большую партию брать не советовал, но уж раз вы решили...
На этих словах Барковскому наконец удается затолкать Сэма обратно в маленькую комнату, к великому неудовольствию хозяина, который уже было собирался уйти туда спать.
А тут как раз обнаруживается пропажа двух бутылок вина, и куда они делись в действительности, никому не ясно, потому что стащить их было некому, а вот ведь на ж тебе. Впрочем, шутка о том, что они, видимо, всецело исчерпали свою карму, всецело переключает народ на спор о буддизме, где лидирует, естественно, все тот же Барковский, а Жорж безмолвствует, всем видом стараясь показать, что не оттого-де я молчу, что ничего во всех этих Шивах многоруких не смыслю, а просто скучно мне с вами спорить, и неча бисер перед свиньями метать. Выразив все это особым движением бровей, подбородка, носа и даже ушей, Жорж произносит: "Компьютер мне, компьютер... " - после чего растекается по Валентине и больше не подает о себе вестей часа полтара.
- 2
Был букет - остался веник.
М. Щербаков.
Возвращаясь на пепелище,
Осязаю рубеж времен...
М. Щербаков.
... Утром все разъезжались. Кто-то, как всегда, безуспешно искал свой зонтик, кто-то торопливо допевал последние песни, Валентина мыла горы посуды. Аркаша решал извечную проблему: провожать или уже не стоит? Сид не решал ничего. Его все настолько достало, что было уже даже лень чертыхаться, и он молча проклинал тот день, когда в первый раз все это затеял.
Барковский не стал дожидаться, пока все соберутся, и, затолкав подмышку Катю, отправился восвояси...
От нее, часа в три, он было поехал домой, но, проходя мимо Казанского собора, увидел стайку хипов. Его пробила ностальгия.
- Здорово, пиплы!
- Привет! Курево есть?
- А... Здорово, Бродяга! Давно не виделись, - удивленно сказал Барковский, доставая "Стрелу" и бросая ее на ступеньки. Пачку моментально растащили.
- А ты играй, играй...
Песни были те же. Хипы были другие.
Дети шестнадцати-семнадцати лет. Позабывшие сленг. Растерявшие две трети тусовок. Их не шугает ментура, не пасет КГБ. И это прекрасно. И концерты - хорошо. Но сейшны - лучше. Когда толпа в сто с лишним человек собиралась у метро, и все - конспирация! - были предупреждены, что если что - они идут на день рождения, а потом Фимочка проводил всех мелкими группками... Эх, они ведь на самом-то деле не представляют, что такое джем-сейшн по-старому. А к Бродяге относятся, похоже, как к патриарху, потому что он еще пил кофе в Сайгоне.
- Кстати, ты Фимочку давно видел?
- Не очень, а что?
- Я, как с армии вернулся, все найти его не могу. Где он сейчас тусуется?
- Фима-то? В синагоге он тусуется.
- В Израиль, что ли, намылился?
- Это бы ладно. Но он дей-стви-тель-но занимается Торой, не ест свинину, бороду отпустил. Мерзкая, кстати, бороденка. Да еще бегает все время, обустраивает какие-то сионистские сборища, университеты...
Последнее как раз Барковского не удивило: раньше тот так же обустраивал домашние концерты БГ - какая разница? Но образ праведника Фиме ну никак не шел. Бабник, наркот, не дурак выпить, он питался той же молочной смесью из христианста, буддизма и фрейдизма, что и все они, и, как и все они, не верил на самом деле ни в бога, ни в дьявола... два года назад. Больше двух лет назад...
Барковский хлебнул из протянутой ему коньячной бутылки какую-то бурду совсем не то, что обещала этикетка. Тип, одетый, несмотря на теплую погоду, в меховую куртку, отозвал его в сторону: