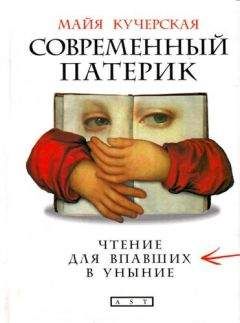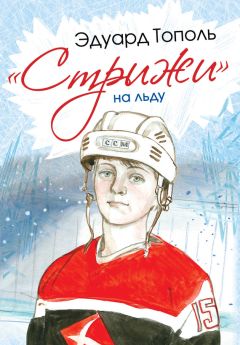Преподобный отче Серафиме! Моли Бога о нас.
Cтрастная колом стояла в горле. Черный ветер выдувал глаза. И я закрываю их, чтоб не ослепнуть и не видеть, потому что видеть больше невозможно. Зажмуриться и застыть. Терпеть не могу таких вот ослепительно солнечных, переходных, ветреных дней, середина апреля, а все еще снег, лед и это слепящее, больное солнце…
Целый год отчаянье подминало меня под себя, загоняло в черный мешок без окошек. Да и какие окошки в мешке? Трудно было дышать. Каждый раз меня снова и снова это поражало, почему, если отчаянье у меня в душе, в сердце, дышать мне трудно телом, легкими? Но есть единственный вздох, который облегчит мои страдания, — затяжка. Я затянусь этой горечью, этим дымком со странным привкусом то ли смерти, то ли травы — и поправлюсь, выздоровлю, пойму, зачем я живу. Будто кто-то настойчиво и дружелюбно предлагал этот элементарный выход: глоток горечи — и никаких мешков!
Я вела машину и все время мысленно курила, не переставая, одну за одной, приоткрыв окно, выпуская дымок на улицу. Задергивала дымные занавесочки, и видеть становилось легче. Если кто-то курил рядом, на улице или в помещении между этажами, я совсем не принюхивалась, не вдыхала с жадностью — это был их дым, невкусный, противный, чужой.
Но меня все-таки достало это, как любят говорить в церкви, искушение, жутко достало, и я спросила у вас на исповеди, помните? Можно я выкурю одну, всего одну сигарету? Просто чтобы кончилось наваждение? Пусть это будет проигрыш, но оно кончится наконец! Вы сказали с улыбкой: «Властию Бога мне данной запрещаю». А я как всегда, словно играя все ту же, давно навязшую в зубах роль: «Все равно нарушу». А вы сдержанно: «Попробуй». И я снова подумала: блин, как мало человек тратит слов, а как выходит сильно. Как мало меня уже задевает, вообще по жизни мало что задевает, а это, слава Тебе Господи, слова этого человека хоть немного еще задевают. И я обрадовалась. Так и не попробовала. Но уехал Димка. На мне всегда сказывается это одинаково: какая свобода сразу, Господи, как перестает вдруг почему-то давить на плечи (крест замужества, что ль?), но тут же рядом со свободой нарастала тоска. Невыносимая. Так хоть можно было поговорить с Димкой, просто чтоб он послушал, а так вообще уже по нулям — пустота. Потому что дети это не заполнение, а по-другому. И опять поднималось это желание, то острее, то мягче, только что-то лень было пойти и купить сигареты. Какая-то вялость меня охватила, когда дело совсем уж дошло до дела. Я ж не знала, какие лучше, какие вкусней.
В то утро я вышла из дома чинить машину. В кои-то веки поставила ее в ракушку, потому что у нее сломали двери и выломали магнитофон, а с открытыми ж дверями не поставить просто так во двор. Пришлось просить дворника Сашу интеллигентной наружности за 50 рублей, он сбил мне лед с дверей, и я заехала, заперла, но, видно, совсем уже вечером, ночью, кто-то стоял рядом с моим гаражом и курил. Он и она. У него пачка была пустой и отлетела подальше, а она оставила пачку недокуренной, сильно недокуренной, потому что, когда я пнула ее ногой, чтоб не валялся возле моей ракушки всякий мусор, из пачки веером разлетелись тоненькие длинненькие белые сигаретки. Это была судьба.
Когда я курила в последний раз, таких красивых и беленьких еще не существовало в природе. Мы курили болгарские БТ и считали это за большое счастье. Один раз я попробовала и «Мальборо» и подумала — чегой-то их все так хвалят? Мне было 16 лет. Я уже почти не могу вспомнить то время, кажется, ничего хорошего. И тогда-то я курила не так уж много, а главное, жутко картинно, даже когда одна, все равно рисуясь, смотрите, как я страдаю. Потом это кончилось, потому что церковь курение не поощряла. Легко мне было бросать, я и не привыкала. Но это, наверное, как мытарства блаженной Феодоры, которые, говорят, мы все после смерти будем проходить — любой грех оставляет в душе след, и за любой ты должен отчитаться. Раз я когда-то курила, значит, и это не выветрилось, и надо это теперь по-настоящему преодолеть. Но в том-то и дело, мне в этот солнечный апрельский день вдруг стало удивительно: с какой стати я буду это преодолевать? Это что, грех? Это не грех. У апостолов нигде про курение ни слова. Да мало ли. По сравнению с самоубийством, например, курение это грех или не грех? И потом вот сейчас попробую наконец, и все, и успокоюсь. Я подняла со снега рассыпавшиеся сигаретки, две штуки, но одна уже успела чуть-чуть намокнуть, и я оставила себе другую, сухую. Понюхала, отлично пахло хорошей сигаретой. Подержала чуть-чуть губами.
Выгнала машину, закрыла ракушку, поехала с пригорка в переулок. Вот она, белая моя, тоненькая подружка, лежит и кротко ждет меня. Я нажала прикуриватель. Прикуриватель не выскакивал назад. Вынула, посмотрела: вместо огненной спиральки — тихая серота. Не работает! Да я ж еду в ремонт, сейчас скажу ребятам, и все. Но я так долго рассказывала мастерам про двери, что до прикуривателя дело как-то не дошло. Я просто про него забыла. А когда вернулась за машиной назад, было уже неудобно. Хотя, может, это одна секунда — починить в машине прикуриватель. И сигаретка так и лежала между сиденьями, под ручником. А что спичек, что ли, нет в городе? Или, может, перестали продавать газовые зажигалки? Но надо было быстрей домой, отпускать маму, которая сидела с детьми, и глупо как-то останавливаться ради спичек, потом, может, из дома завтра принесу. Мелькнула даже мысль покурить дома, но там дети, никакого кайфа — нет, надо в машине.
Захлопывая дверь, я еще раз взглянула на свою последнюю надежду под ручником и пошла, веселая, домой. Явно наступала маниакальная стадия. Вечер прошел хорошо. Только два раза я закричала, что в принципе очень мало, только раз бросила детскую кастрюльку об пол, и от нее тут же отлетела ручка. То есть вообще сделать ничего не могут по-человечески — made in China, называется! Но Петя перевозбудился, Лиза спала не шелохнувшись, а Петя вскрикивал и все время меня звал. Он звал меня сквозь сон, но я каждый раз не знала, может, это не сквозь сон, и бежала к нему, а он стонал. Опять, что ли, магнитные бури? И через четыре бегания, в три ночи я подумала, что если не усну немедленно и Петя не перестанет вскрикивать, умру. И я стала молиться: «Господи, обещаю тебе никогда-никогда не курить, обещаю завтра, как только открою машину, выкинуть эту сигарету, только дай мне поспать. Усыпи Петю, чтоб он не вскрикивал, а я бы тоже поспала. И прошу прощенья». Петя тут же умолк, не знаю уж, поэтому или нет, но в следующий раз мы встретились только утром.
После завтрака мы втроем собрались на прогулку, оделись и спустились вниз. Нужно было немного доехать до Нескучного. Я открыла машину, завелась, машина двинулась сквозь двор, прямо из-под колеса взвился голубь. И тут я вспомнила: выбросить! Скорее! Но сигареты не было. Нигде. Здесь, вот здесь она лежала вчера под ручником! Белая полоска на черном. Пустота. Я остановилась прямо посреди двора, посмотрела под сиденьями, потрясла коврик… Петя, Лиза, вы не брали такую длинную белую трубочку с коричневыми крошечками внутри? Не брали. Правда? Правда. Да я и знаю, что не брали, не успели, мы только тронулись. Куда же тогда она делась? Господи, ты что, не поверил мне и сам забрал отсюда эту сигарету? Но я честно б ее выкинула, а если это чудо, то спасибо. Чудо вышло смешное. Батюшка! Вот и все.
1. Отец Мисаил встречался с Анной Ахматовой, был чудесным рассказчиком, говоруном и записывал разные истории про батюшек — документальные, очень смешные. Потом эти истории вышли книжкой, потом стали выходить и переиздания. Читатели присылали отцу Мисаилу благодарственные отклики, телевидение приглашало его поразмышлять о судьбах церкви, газеты брали у него интервью. И все были довольны.
Но однажды отцу Мисаилу приснился странный сон. Будто сидит он за столом, листает свою книжку про батюшек, а в книжке вместо текстов фотографии всех, о ком он писал, и все его герои — в чем мать родила. «Что это такое?» — в ужасе вскрикнул отец Мисаил и захлопнул книжку. Но и с обложки ему погрозил пальчиком один его знакомый священник, при этом опять-таки совершенно голый, произнеся грозно: «Не обнажай наготу отца своего».
2. Вскоре после этой истории отец Мисаил узнал, что у него есть коллега. Из мирян, да еще и женщина! Какая-то Кучерская, которая, как говорили, тоже очень любила писать про батюшек. Отец Мисаил даже прочитал в «Литературной газете» несколько слетевших с ее пера историй и после этого не поленился, узнал ее телефон и позвонил начинающей писательнице.
— Слышал я, что вы, госпожа Кучерская, пишете пасквили на батюшек, — сказал отец Мисаил после небольшого и в общем ласкового вступления. — И даже их читал. Временами смешно, но чаще грустно.
Кучерская же в трепете молчала. Сам знакомец Ахматовой звонит ей и преподает урок!