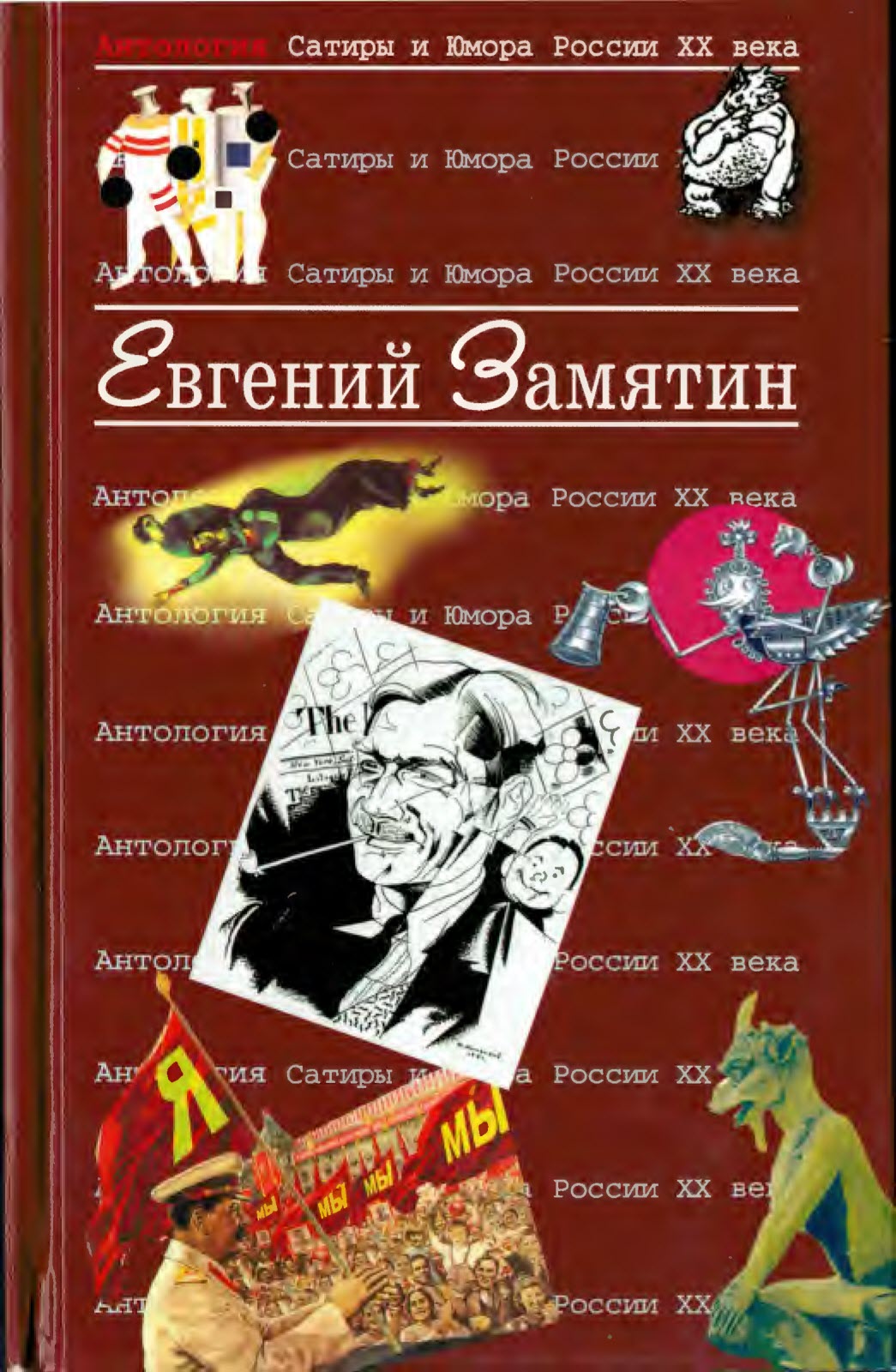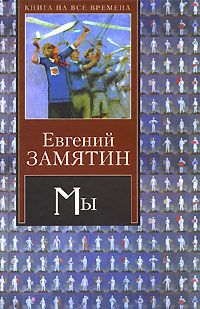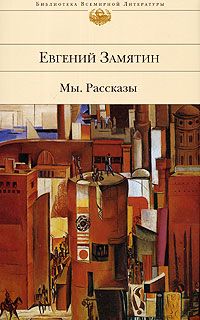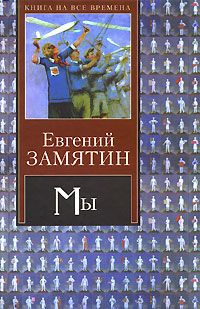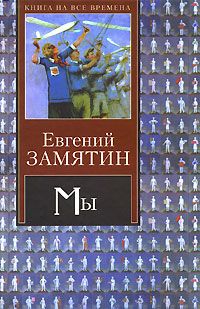у них общего языка?
Сказано это было раздельно и твердо. Все разинули рты: языка-а? Ка-ак? И окончательно утвердилась таинственность князя.
За ужином рядом с Глафирой сидела Варвара. Обнимала Глафиру за талию, ласково-злыми глазами глядела, медовые речи вела.
А когда у себя в светелке Глафира стала раздеваться на ночь — на кисейном платье увидала сзади дыру: выхвачен ножницами изрядный косяк. Сразу смекнула Глафира, кто. Сердце зашлось от злости на Варвару. Может, оттого и заснуть никак не могла.
Встала. Приложила к стеклу к холодному лоб. Напротив, через площадь, в агарковских номерах, в окне теплел огонек. Схватила бинокль, прильнула — и вся заколыхалась под тонким мадаполамом, как рожь от ветра: у стола, раздетый, сидел князь, писал. Но что же, что? Ночью, в три часа… Наверное, завтра придет из номеров половой…
Князь писал письмо в город Сапожок. В правом углу на бумаге была вытиснена коронка.
«Милая Лена. У меня от подъемных еще остался 21 ру. Не надо ли тебе? Потому что здесь — жизнь очень простая, яйца лутшие — 18 копеек, я скучаю и мне денег не надо. Кланяйся Васи, я сердца на него не имею, лишь бы ты была счаслива».
Костя за ужином не был. Исправничиха ему сказала:
— Константин Захарыч, ты у нас свой человек… Не прогневайся уж, стульев нехватка.
На нет — нет и суда. Костя не обиделся. Жалко только было отрываться от Глафиры: нынче Глафира — в белом платье — была совсем замечательная, прямо вот… божеская. Ну. тоже и князь, еще бы на него поглядеть.
Каждое мание князя — нравилось Косте, каждое слово его ловил. А когда услышал про одеколоны его — тут Костя уж совсем восторгнулся, закипели стихи в голове.
Пришел Костя домой — первым делом к укладке, вынул тетрадь — и сразу, с присеста, напечатлел:
Наш новый господин почместер.
Замечательный человек.
А по мне раз в десять
Умнее тут всех.
И когда мне представлялся,
То мне рукопожал.
Я восхищался
И навек его уважал.
Потифорна ждала Костю с блинами. Мигом сварганила огонь в печке, первый, румяный, блин полила маслом, поставила Косте. Стал было Костя искаться: сыт уж, довольно.
— Господи-батюшка, уж теперь и лопать не хочет у матери у родной. Загордился уж, а? А не я ли тебя, поганца, и в люди-то, в чиновники вывела, а?
Не сговорить с маманей. С покорной улыбкой Костя снова ел блины, без счету: кипели еще стихи в голове — до счету ли тут было?
А наутро — катался по полу Костя, помирал животом. На почту не пошел: куда уж. И все хуже да хуже.
К прощеному дню — Костя обрезался, совсем посинел. Потифорна на своем веку покойников без числа поглядела, глаз наметался. С базара пришла, увидала Костю такого — как взвоет. Да скорей за отцом Петром: хоть бы христианской кончиной-то помер Коська.
Пока Потифорна ходила — Костя лежал один. Умирало солнце. В окно — бабочкой нежной билась заря. Где-то звонили, над завалящим проулком колокол плыл — печальный. как лебедь. В какую-то секунду Костя понял, что конец и что надо — нужнее жизни — увидеть Глафиру и сказать ей все.
Потифорна вернулась одна, отца Петра не застала дома. И тотчас строгим шепотом Костя велел мамане сбегать к исправнику и позвать Глафиру.
Пошла Потифорна, как не пойти. Пошла, хоть и кропталась, утирая слезы: нет бы за доктором или за попом, а он за вертихвосткой за этой посылает!
И когда возле себя увидел Костя ее — Глафиру, единую, божескую, — сдвинулся в нем какой-то столетний камень, и забил из-под камня из самой глуби хрустальный ключ: всего напоил, утишил, исполнил. Тихонько взял Костя Глафирину сладкую руку:
— Теперь… я должен сказать… Помираю, блинов объелся. И теперь вот… Нет. не могу я про это сказать словесно!
От жалости вся сморщившись, Глафира сказала:
— Ну, что вы. Костя, зачем? Вы ведь знаете, что я вас тоже… зачем говорить…
Костя улыбнулся прозрачно-покорно: теперь — хорошо помереть. Туман… Туманом заволокло Глафиру, последней ушла она от Кости. Конец, тихо все, сладко — и если б только маманя не брызгала в лицо водой… Но Потифорна все брызгала: Костя открыл глаза еще раз…
* * *
Так бы, может. Костя и помер, да втесался тут отец Петр — с баклановкой со своей; баклановка у него была — ото всех болезней помога. В баклановке первое — конечно, водка, всем лекарствам мать; а в водку — красный сургуч толченый положен, да корень-калган, да перцу индейского красного же, да еще кой-чего, что берег в секрете отец Петр.
С баклановки ли с этой огневой или просто с радости великой — стал Костя живеть помалу. На Крестопоклонной встал с постели: еще ветром качало, зеленый, длинный — скворешня живая; Костин озябший носик — усох, стал еще меньше, еще жалостней.
Потифорна первым делом Костю поперла к отцу Петру, благодарить за баклановку.
— Ну-ну-ну, чего еще там, — замахал отец Петр на Костю. — Поговей постом — вот и все. Ну-ну, иди с Богом.
Протопоп сидел в углу — усталый, после обедни постовской: мохнатенький, темный — в угол забился. Несть числа у него в соборе говельщиков было. Кликали колокола целый день, шел тучей народ. С любострастием вспоминали все мелочи куриных грехов: медленный, мешкотный шепот в уши лез без конца.
Уходил протопоп из собора — будто медом обмазан и вывалян весь в пуху: мешает, пристало по всему телу. Одно только спасенье было: придя домой — выпить рюмку баклановки.
Перво-наперво после той рюмки — пойдет тончайший гуманец в глазах, и все денное, налипшее, гинет. Тихо — не спугнуть бы, — пригнувшись, сидит отец Петр. А протрет глаза — и уж ясно видит, настояще, яснее в сто крат, чем днем.
Тотчас за окном — веселая козья морда кивает:
— Здравствуй.
— Ну, здравствуй, ишь ты нынче какой!
В таком виде — любит их отец Петр. Вот если они принимают человечий зрак — нашей одежи не любят они, больше все голяшом — ну, тогда уж…
Приятную беседу с козьей мордой ведет отец Петр, пока не заслышит: Варвара идет. Тот — дирака, конечно: в одноножку, вприскочку, как малые ребята бегают. И видно отцу Петру: тряско подскакивает левое его плечо на бегу.
А голова у протопопа работает ясно-преясно: