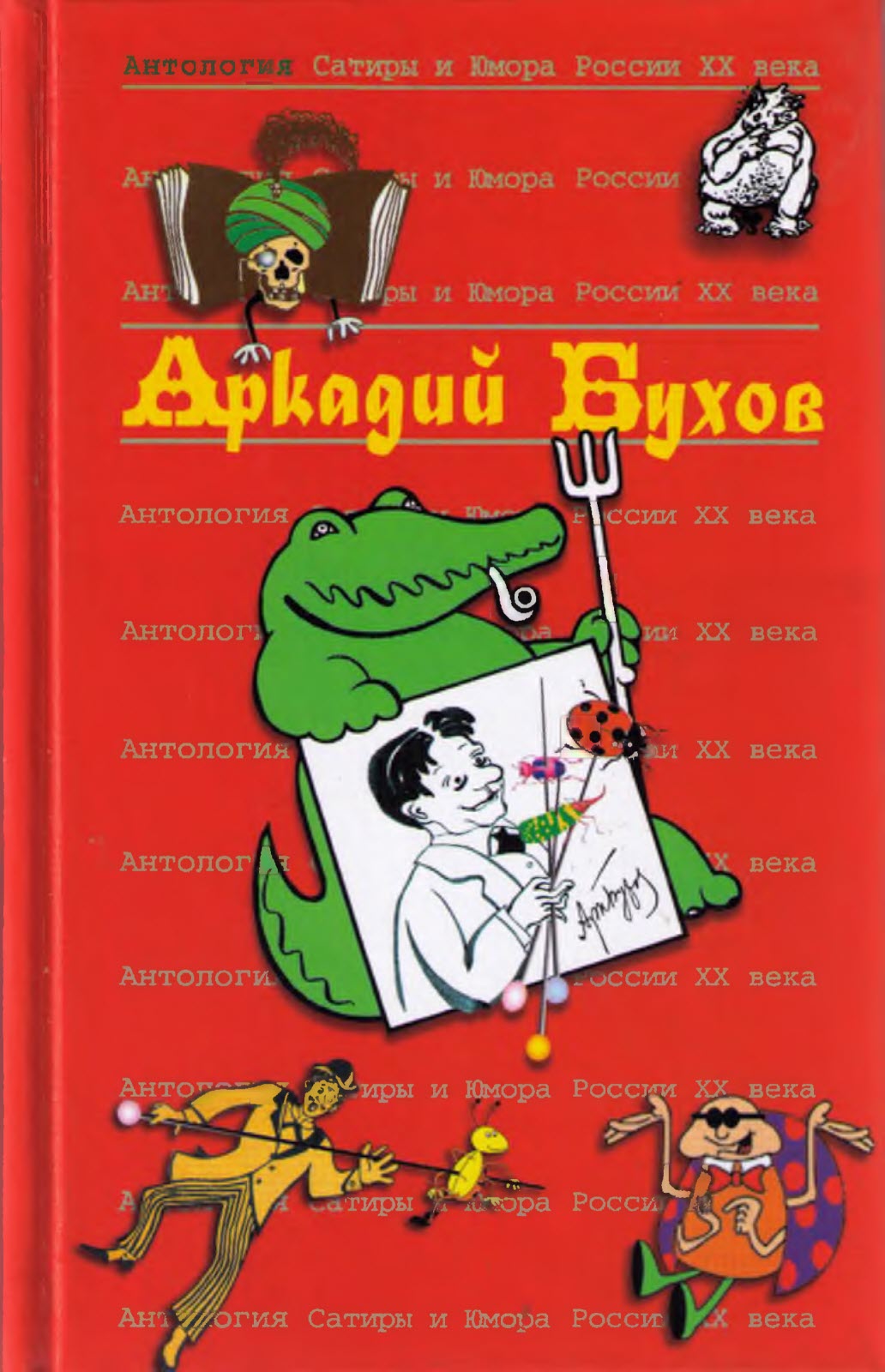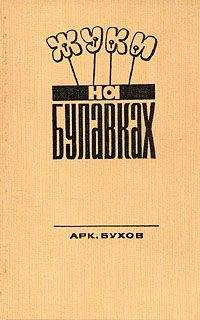летнего, парадная одежда с ночными туфлями, или внезапное появление в тоге, небрежно накинутой поверх серого костюма, все это только охлаждает население и сможет толкнуть его на перевыборы президента. Умный человек должен понимать что старый президент при новом самое большее может рассчитывать на чин милицейского десятника или глашатая правительственных постановлений о санитарных мерах в боковых переулках.
Приятная наружность для президента местной республики прямо необходима. Та республика, в которой матери карточками президента пугают на ночь испорченных и непослушных детей, обречена на гибель.
Разрыв на время с семейными делами тоже явление необходимое. Президент, которого во время ответственного парламентского заседания вызывают в приемную и бьют зонтиком за несвоевременную выдачу содержания брошенной им женщине, — разве же это глава величественной организации?
Также должны быть оставлены все акты личной мести, потому что нет ничего печальнее, чем государственный декрет, направленный исключительно против одного человека, который должен президенту десять рублей и не собирается их отдавать. Объявление квартиры любимой женщины президента на военном положении, ради предохранения этой квартиры от нахальных молодых людей, — тоже акт, недостойный республики. Жалованье президент назначает себе сам, стараясь, чтобы оно не превысило содержания всех законодательных учреждений, что вызвало бы справедливое нарекание со стороны населения…
Остальные мелочи президентской жизни должны быть предоставлены такту самого президента.
Надеемся, что гг. президенты не откажутся известить нас благодарственными письмами о том, какую пользу в их деятельности принесло наше краткое руководство.
Вернувшись на родину в 1928 году, А. С. Бухов сразу же стал желательным автором многих газет и журналов. За десять лет он опубликовал множество рассказов. Лишь незначительную их часть он успел собрать в книги. Здесь только некоторые рассказы и фельетоны из периодической печати. И они по-своему и Выразительно отражают быт и атмосферу конца 20-х—30-х годов.
Мои встречи у Льва Толстого
Больше всего Толстой не любил бесцельно мучивших его нелепыми разговорами.
Из биографии Л. Толстого
Писателей я, знаете, вообще всегда любил. Жалко было. Иной — пожилой человек, образование имеет, семью, имущество небольшое, а писать должен, и всё в четырех частях. У,них дело такое — по частям платят; больше частей — больше заплатят. А некоторые и очень умело писали, хотя читалось скучно. Я, например, больше про птиц люблю или стишки. За день намаешься и длинное читать неохота. Но графа Льва Николаевича уважал я всемерно. И тебе романы, и философские всякие штуки, и французские фразы, и даже, поговаривают, Шекспира не уважал, и против начальства шел.
Как уж это вышло, не помню, только решили мы с Митей Лупояновым ехать в Ясную Поляну. Дело было летом, сезон был тихий — не век же за шитьем сидеть, — вот мы и решили немного поразвлечься. Путь недолгий, воздух летом тихий, а в Поляну эту самую народу видимо-невидимо ехало, и всем отказу не было.
Митя-то волновался. Он сам в газетах по сельской части пописывал, так у него вроде как бы что-то авторское, а мне хоть бы что. Еду запросто и еду.
Приезжаем в Ясную Поляну. Закусили на постоялом дворе, помню, еще карася несвежего дали и чай спитой заварили — и прямо в именье. Подходим, значит, к именью, а навстречу какой-то старик.
— Митя. — говорю, — держись. Сам идет.
Посмотрел Митя, колени у него задрожали, голос пересекся, а сам шепчет:
— Нет, — говорит, — это так, самостоятельный старик… И на портрет не похож. У портрета борода длинная, и блуза на нем, а у этого коротенькая, рыжеватая, а поверху всего — синий пиджак с белыми брюками.
А все-таки спрашиваем:
— Вы, извините, не Толстой Лев Николаевич будете?
— Нет, — говорит, — я не Толстой; скрывать этого нечего, а ихний друг, живу здесь вторые сутки, кормлюсь, гуляю и все хочу познакомиться, а они все пишут.
— Пишут? — переспросил Митя.
— Пишут, — отвечал рыжеватый старик и дальше пошел.
Задумался Митя, а мне хоть бы что. Приехал запросто и хочу повидать.
— Пойдем. Митя, напишет и выйдет.
Входим в дом. Дом как дом, ничего особенного. Люди ходят, баба какая-то треплется. Сели на верандочке, ждем.
— Вам кого, собственно?
— А нам Толстого, писателя. А вы кто будете?
— Секретарь. Занят Лев Николаевич. Очень занят и никого не принимает.
— Скажите на милость… Люди ехали, ехали. Можно сказать, хотели писателя земли русской повидать, а он занят. А что он делает-то?
— Пишет, господа. Если можно — потише.
— Потише — это можно. А что же он пишет-то? Ежели стишки какие, то мы подождем. Долго ли смышленому человеку стишок написать…
— И ждать нечего, — кипятится секретарь, — может, он еще неделю пропишет.
— Неделю? Вот так здорово!.. Не пивши не евши целую неделю? И зачем же он так?
— Может, господа, попозже заедете? — предлагает секретарь, а сам на дверь косится. — К осени поближе… И Лев Николаевич посвободнее…
Тут уж и меня злость взяла.
— Я, — говорю, — лишний раз шляться времени не имею, и к осени каждый человек делом занят…
— Ну, одним словом…
— Нечего, — говорю, — словами тыкаться… И на харчи тратились, и на постоялом дворе несвежего карася ели, и на дорогу расходовались, а вы — занят да занят…
Голос у меня тихий, но крепкий, а стариковский слух въедливый. Растворяется дверь, и шасть на нас — сам Лев Николаевич.
— Чего, — спрашивает, — хотят эти люди?
— Приехали, — говорю, — ваше сиятельство, познакомиться. Запросто. Наслышаны и начитаны. Фамилия моя Ляткин, живем шорным промыслом. А это Лупоянов, Митя, стишки пишет. Желаете, может, прочесть? У него с собой. Митя, доставай записи.
— Нет, — говорит писатель земли русской, — вы уж не читайте. Некогда мне.
А сам хмурится. Неприятный такой.
— Ничего, — говорю, — мы ненадолго. Разрешите спросить?
— Чего, — говорит, — еще? Спрашивайте, только скорее…
Сказал он это, а спрашивать мне, прямо говорю, нечего. Однако подумал и говорю:
— Пишете?
— Пишу. Пишу, когда мне не мешают.
— Здорово! — говорю. — Так и «Войну и мир» написали?
— Так и написал.
— Одни, — спрашиваю, — изволили написать, или кто из домашних пособлял?
— Один, — говорит, а у самого от гордости губа трясется и руки за пояс не попадают.
— И «Отцов и детей» сами изволили?
— Это, — говорит, — не я, а Тургенев.
— Скажите, — говорю, — успел-таки вперед забежать. Ловкий был.
Митя меня за рукав тянет: пойдем да пойдем.
— Оставь, Митя. Разговориться не даешь… А как, — спрашиваю, — насчет семинара, Лев Николаевич? Дармоеды, поди, растут, на папашу надеются? А? Папаша разные шутки-прибаутки пишет, покоя не знает, а они хотя бы