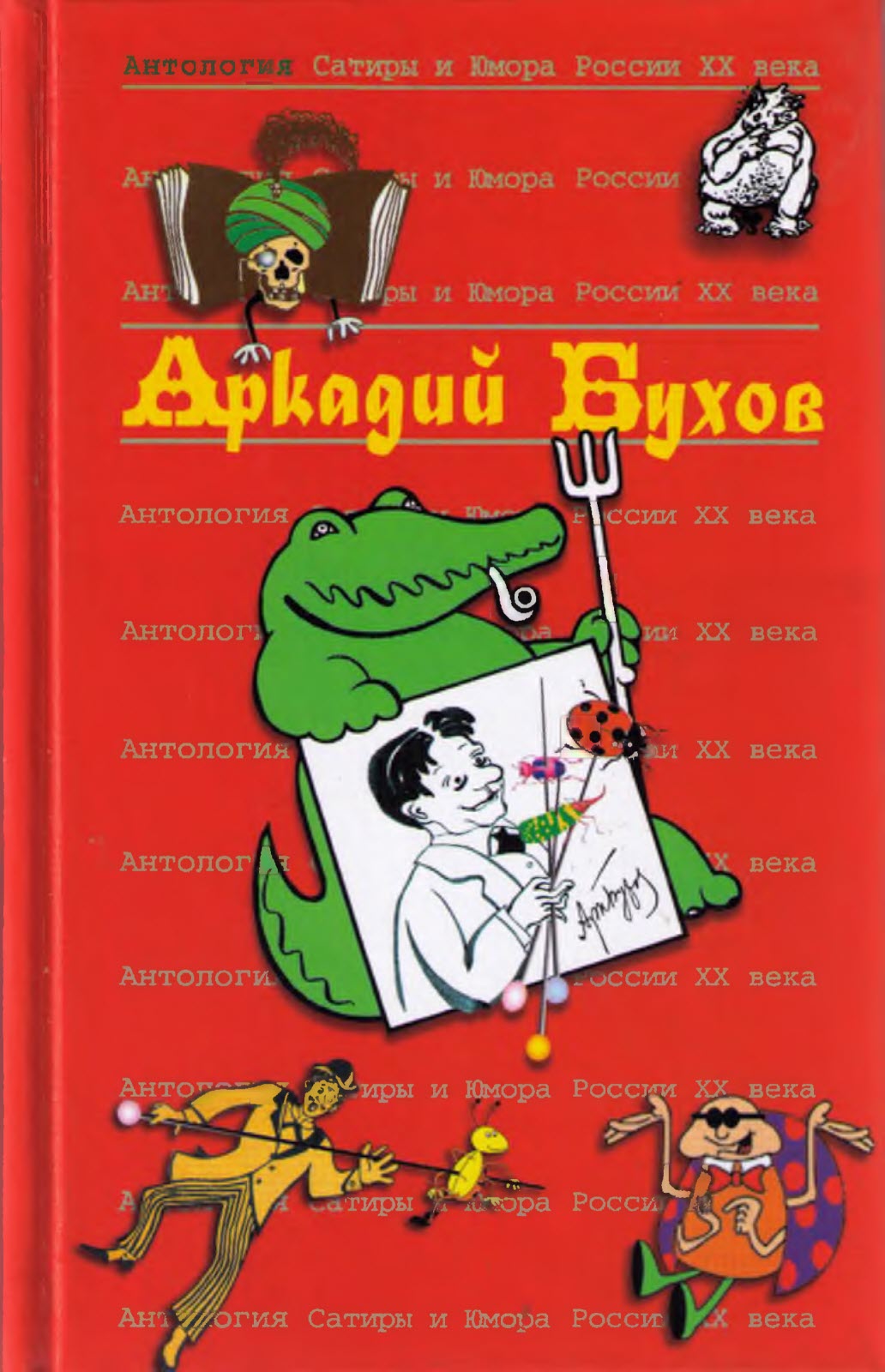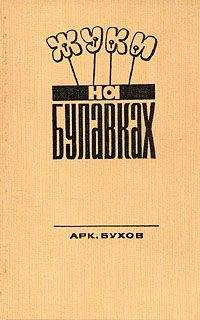скажи, чем тебя можно угостить… Хочешь торта?
— Нет, нет… Спасибо…
Не ел и не пил я добросовестно. А вдруг она подумает, что и цветы я собираю, и с утра дожидаюсь ее только для того, чтобы поесть сладкого. Нет. Разве уж слишком дрогнет сердце, когда вплотную подкатится блюдечко с холодной земляникой, обсыпанной сахаром…
А какая она красивая была! Лицо бледное-бледное, волосы густые, голос ласковый. Двадцать шесть лет человеку, у самой деньги в ридикюле, все ее и в лодку и в гости приглашают, а сидит со мной, как с равным, разговаривает. Раз даже зацепил за ложечку, разлил стакан на скатерть, на глазах слезы навернулись, а она только смеется:
— Ничего, ничего, Сережа… Сама вчера кофейник опрокинула…
Совсем как будто не со мной, а с гостем, который стакан опрокинул, разговаривает.
— Ты что сегодня делать будешь?
— Я сейчас пойду, Ксения Михайловна…
— Да я не к тому… Ты всегда приходи, я рада…
— Почитаю немного… Книжка есть интересная…
— А потом вечером поедем кататься, и ты приходи…
— Не взяли меня вчера…
— А сегодня возьмем… Я тебя сама захвачу… А какая книжка?
— Историческая… Князь один воевал…
Уходил я от Ксении Михайловны такой, как будто у меня вся душа пропахла ее духами. И странно было самому, что через полчаса я играл в бабки и спорил из-за какого-то удара. С человеком так обращаются, так разговаривают, а он из-за бабок разодрался с Гришкой, тем более что дело дошло до общего крика и ударов палкой по ногам…
* * *
Кажется, это было в пятницу. Растрогал я Ксению Михайловну тем, что целый день шлялся по болотам, удирал от ужей, а к вечеру принес ей целую охапку болотных снежных лилий.
— Вчера говорили, что любите, — конфузливо оправдался я, — извините, только стебельки поломал…
На террасе у нее было много народа. По-видимому, цветы ей понравились, и она совершила совершенно необдуманный поступок.
— Ну, брат, и молодчина ты… Это вот кавалер. Иди сюда… — И, прежде чем я успел опомниться, она сама шагнула ко мне и звонко поцеловала меня в губы.
Я что-то хотел сделать, что-то сказать, но стало сразу жарко, щеки загорелись, все завертелось в глазах, и, не помня себя, я убежал с террасы.
Добежал до леса, зарылся около какого-то дерева в траву и все еще не мог поднять глаз…
Первое, что я сделал, когда пришел в себя, — вынул источенный перочинный нож и стал вырезать на коре милые буквы К. и М. Ксения Михайловна… Что вы сделали? Разве вас сегодня вечером ругали и обещались не выпускать с дачи за то, что вы пришли в одиннадцать часов, прогуляв и чай, и ужин. Меня ведь…
* * *
Когда остаются одни женщины, они шепотом говорят самые обыденные фразы. Когда остаются одни мужчины, они вполголоса просят только передать им стакан чая или пододвинуть спички: все остальное, что нуждается в самой примитивной тайне, говорится таким тоном, как будто слушают четыреста человек в зале с плохой акустикой.
Поэтому я не подслушивал, а просто слышал, что говорили под моим окном товарищи брата. Так бы я мог спокойно слушать и лежа в постели, но раз разговор шел о Ксении Михайловне, это требовало более тщательного внимания и дипломатического места за приоткрытой ставней.
— Кто? Эта дрянь? Подумаешь…
— Сам-то, милый мой, целыми вечерами около нее трешься…
— Около Ксеньки? Плевал я на нее… Знаете, такой неприличной бабы я никогда, кажется, не видел, — гудел снизу хорошо знакомый мне баритон нашего гостя, жившего уже четыре недели. — Противная она…
— Ну, не скажи, жаль, что этот толстяк около нее…
— Живет она с ним…
— Ас кем она не живет… Мужики рассказывали, что этот студент… Рядом с ней живет… Третьего дня ночью вылезает из окошка, как в фарсе. И как только ей не стыдно…
— Толстяк деньги перестанет давать…
— К другому на содержание пойдет… Продажная…
— А потом по рукам пойдет…
— Туда ей и дорога…
Что я передумал за эту ночь — трудно вспомнить. Почему-то хотелось плакать. Хотелось опять подойти к окну, приоткрыть ставню и столкнуть вниз чугунную вазу, непременно на голову кому-нибудь из говоривших. Я ничего не понимал, но все обрывки фраз так ясно застряли в мозгу, и каждая имела свой особый, обидный для Ксении Михайловны, смысл. Если я пойду и буду защищать ее, все будут смеяться и поймут, что я не просто ношу ей цветы и дожидаюсь по утрам, когда она встанет. А не защищать нельзя. Положим, кто говорит, разве они понимают ее…
Утром я догнал маму где-то у погреба и спросил:
— Мама, а что значит — жить на содержаньи? Это как нахлебник?
Мама сокрушенно покачала головой:
— Шляешься к этой паршивой бабе… А потом лезешь с глупостями…
— Она не паршивая, — хмуро отрезал я, и самому странно показалось, как я мог произнести такое слово, направленное против Ксении Михайловны. — Это неправда…
— Молчи ты… Иди пей чай…
— Не пойду… Уйду я…
— Куда ты? — крикнула вдогонку мама.
Я остановился, подумал, в голове мелькнул вчерашний разговор под окошком, и хотелось из него выхватить что-нибудь самое острое и больное, чтобы все поняли и оценили.
— Так. по рукам пойду…
* * *
Букет уже поставлен в вазу. Солнышко пролезает в щели ситцевых занавесей террасы. Ксения Михайловна вяло жует какой-то пирожок и ласково смотрит на меня.
— Ксения Михайловна…
— Ну?..
— А вы не обидитесь?
— Да в чем дело, милый?..
— Я, правда, не знаю… Честное слово, это не я, а они говорят…
— Да ты говори…
— Ксения Михайловна… Правда это?.. Только вы не обидитесь?
— Да что ты… Я тебя очень люблю, ты очень хороший мальчик…
— Ксения Михайловна… Почему говорят, что вы на содержании?
— Сережа, Сережа… — В глазах у нее испуганные огоньки, ресницы вздрогнули. — Что ты, голубчик?.. Разве можно…
Я не могу не сказать ей все, что я услышал. Разве они имеют право обижать ее, и с каким-то отчаяньем я стараюсь выбросить все сразу.
— Толстяк вам деньги платит… Почему они говорят, что вы какая-то продажная… Ведь не курица же вы…
— Сережа… Ты не имеешь права… Кто тебе сказал? — со слезами в голосе спрашивает, почти кричит Ксения Михайловна.
— Вчера, под окном… Все говорили… И третьего дня из окна, мужики видели, лез кто-то… А потом деньги перестанет давать…
Ксения Михайловна бледнеет и опускает голову. Я теперь не только вижу, но и слышу, что она плачет… У ней подергиваются плечи и краснеют уши. Громче, громче плачет…
— Ксения Михайловна… Вы же обещались…
— Уйди, уйди, Сережа…