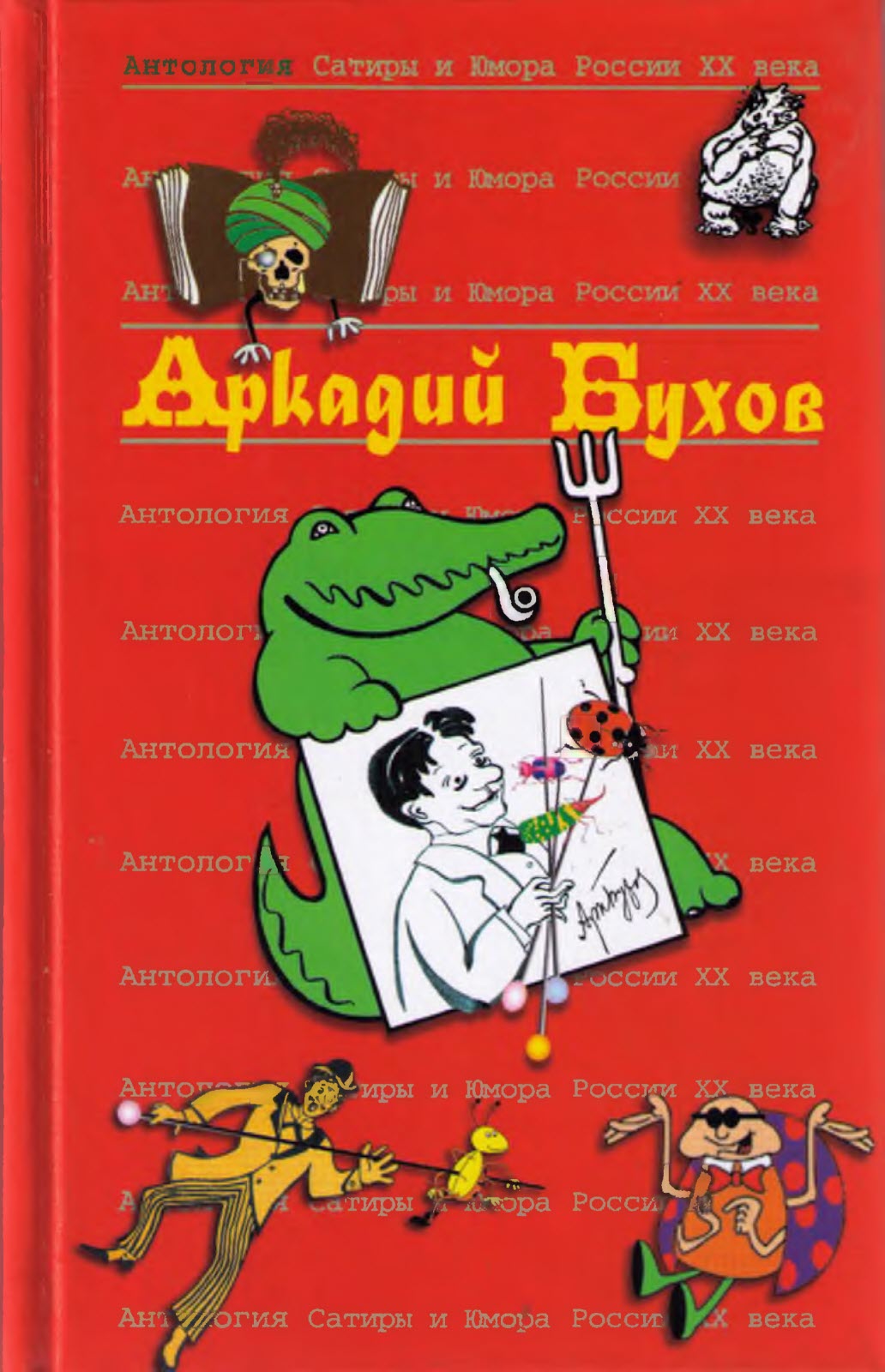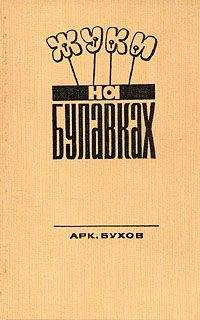учебником и зевал. Валя поила куклу холодным чаем.
— А папка-то не помрет? — равнодушно спросила она и добавила: — Как дедушка?
— Нет, — зевнув, ответил Костя. — Они живучие. А помрет — мамка дедушке угол наймет, а нас в ту комнату. Мне стол поставит, а тебе тоже стол. Маленький, и на нем зеленая лампа. Здорово?
— Здорово… — с восторгом заметила Валя. — Ив кровати с кошкой буду спать. А можно о папке говорить, что он помрет?
— Можно, — кивнул головой Костя. — И красок у меня нет, и рождение зажулили.
Окунев хотел что-то сказать, но язык сухой толстой тряпкой лежал во рту. Он только промычал жалобно и обиженно и почувствовал, что по щеке проползла мокрой мухой щекочущая слеза.
— Мычит, — сухо посмотрел в его сторону Костя. — С утра мамка орет, вечером он мычит… Когда же заниматься?..
— Как дедушка, — констатировала Валя. — Они все мычат.
Болезнь проходила медленно и вязко. Только через одиннадцать дней Окунев смог ходить по комнате, небритый, с подламывающимися ногами. Утром Костя ушел в школу, а сердитая на болезнь мужа Катерина Васильевна увела Валю гулять.
Тяжело шлепая войлочными туфлями, Окунев прошел к старику.
— Здравствуй, отец, — сказал он, опускаясь к нему на кровать. — Ну как?
— Петюша, — беззубо улыбнулся старик, поглаживая его руку. — Плохо, Петюша… Зажился я…
— А ты живи, отец, — отвернувшись в сторону, устало кинул Окунев, — всем жить надо. Мало ли что с кем бывает. Хочешь чаю?
— Не надо, — слабо пожал старик его руку. — Посиди у меня.
Окунев погладил его холодную, всю из плетеных синих жил руку и впервые за последние шесть лет ласково и грустно посмотрел на старика.
Голубая фигура Жана Буше взметнулась от трапеции под самым куполом, ринулась вниз, и через несколько секунд сетка мягко и заботливо подкинула молодого акробата в воздух.
— Элля! — крикнул он, кланяясь публике. И навстречу его звонкому тенору партер и галерея бросили волну аплодисментов. Четыре раза еще выходил кланяться Жан Буше, а после четвертого вышел напудренный шталмейстер и деревянным голосом объявил:
— Антракт!
Ряды в партере пустели. Зрители шли в конюшни и в курилку.
— Европа! — завистливо произнес человек с большой бородой, в кепке и в зеленом галстуке. — У них каждый мускул куда надо пригнан. Разве наш так прыгнет? Либо пузом об сетку, либо ногой об воздух запнется.
— У них в самом нутре техника, — согласился зритель в рыжем пальто с рваным карманом. — Может, его с малолетства били, прежде чем прыгать начал. У них с этим строго. Заграница. А наш что? Ему семилетку кончать неохота — вот он и прыгает.
И они прошли за кулисы перед только что прошмыгнувшими туда двумя школьницами в синих беретах. Одна — с толстой русой косой, другая — с черными веселыми кудряшками.
— Типичный Фербенкс, — взволнованно шептала коса. — И. наверное, влюблен в какую-нибудь ихнюю приезжую графиню.
— У них это нельзя, — сочувственно сказали кудряшки. — У графини муж и даст ему по морде. Акробаты влюбляются в наездниц.
Публика долго ходила по цирковой конюшне, мешала лошадям жевать овес и в упор рассматривала разгримированных актеров. Из боковой уборной вышел Жан Буше — в коричневом изящном пальто, в темной, хорошо выглаженной шляпе и желтых, сверкающих ботинках.
— Клавочка, родненькая, — тихо пискнула коса, — ты же знаешь по-французски… Заговори…
Кудряшки густо покраснели и тонким голосом выдавили:
— By зет… француз?
— Вуй, — солидно ответил Жан Буше и пошел к выходу.
Когда он проходил мимо человека с зеленым галстуком, тот солидно откашлялся, мотнул бородой и почему-то произнес:
— Пардон.
— Вуй, — так же солидно произнес Жан Буше и вышел.
Он долго шел по плохо освещенным улицам и тихонько насвистывал, чему-то весело улыбаясь. В узеньком тупичке он остановился около маленького одноэтажного деревянного домика и постучал в освещенное окошко. Окошко раскрылось, в темноту высунулась старушечья голова в вязаном платке, и Жан Буше тихо сказал:
— Это я, мамаша, откройте.
— Андрюшечка, — ласково и нежно запел старушечий голос. — Иди, родненький, заждалась я тебя… Думала, уж не придешь…
— Ну что вы, мамаша, — улыбнулся акробат, входя в комнату. — Сама лепешки с творогом обещала, и вдруг — не приду. Спекла, старая?
— С хрустом, родненький. Как в детстве любил. Поджаристые. Кушай, золотко.
Через десять минут Жан Буше сидел за столом и с подчеркнутым аппетитом ел пресные и невкусные лепешки. Есть ему не хотелось, во мать такими радостными глазами смотрела за каждым куском, что акробат потянулся за третьей лепешкой.
— Кувыркаешься все, Андрюшечка? — грустно спросила она.
— Кувыркаюсь, мамаша. Ты не бойся. Привык.
— И жалованье аккуратно платят?
— Аккуратно, мамаша.
— Ну, и это хорошо, — печально пожевала старушка губами. — И за присылы тебе спасибо. Балуешь ты меня, старуху. Таким страхом жалованье зарабатываешь, а на меня, старую, тратишься…
— Хватает, мамаша, не беспокойся. Ты вот только что, — акробат немного замялся и виновато посмотрел на мать, — когда в цирк ко мне придешь, так по фамилии не спрашивай. А скажи так: где, мол, здесь Жан Буше? Поняла?
— Это что же такое будет?
— Фамилия моя теперь. Буше и еще Жан. Это, мамаша, для дела нужно. Ежели я, скажем, Андрей Савелкин — одна мне цена, а ежели я Буше — другая.
— Оно конечно, — кивнула старуха. — Савелкин для представления не годится. Поняла, Андрюшечка.
И вдруг с тихой тревогой, смахнув робкую слезинку, спросила:
— А как же ты по-ихнему объясняешься-то, Андрюшечка? Тяжело, поди?
— Да нет, мамаша. Ежели надо «да» сказать, говорю «вуй». А ежели наоборот — произношу «нон».
— Вуй, — протянула старушка и улыбнулась. — Чудеса!
Акробат зевнул и посмотрел на пальто.
— Пойду, мамаша. Спасибо за лепешки.
— А то, может, здесь переспишь. Андрюшечка? — попросила мать. — Чего тебе в номера-то свои шлепать? Блохи еще там… Я тебе на диванчике уж постелила…
В номерах ждали товарищи. Уезжавший завтра укротитель устраивал ужин. Акробат вздохнул и с растяжкой сказал:
— Ладно, мамаша. Пересплю.
Он быстро разделся, лег, натянул на голову одеяло и, подогнув на неудобном диванчике ноги, уснул. Старушка потушила лампу, на цыпочках подошла к дивану, нежно поправила подушку и пошла закрывать окно.
— Марья Егоровна, — спросил чей-то голос под окном, — к тебе сынок, говорят, прибыл? У тебя сейчас?
— Вуй, — гордо ответила мать. — Здеся.