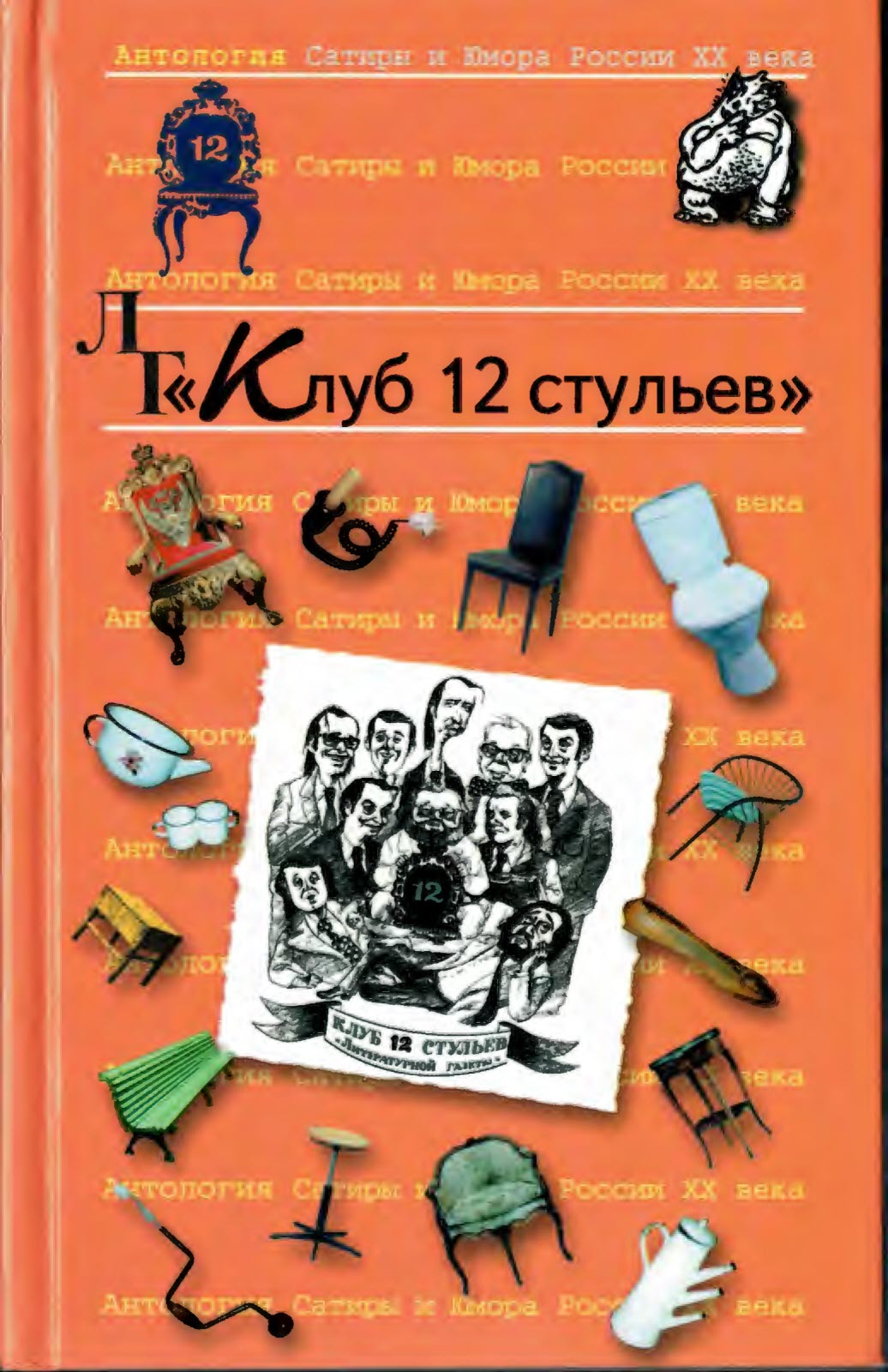августа 1968 года на 16-й полосе «Литгазеты», в самом ее центре, была напечатана фотография из цикла «Что бы это значило?»: человек в четыре пальца свистит в ответ на что-то, что осталось за кадром. А за кадром в этот день было вторжение советских войск в Чехословакию. И понеслись письма читателей. Самыми спокойными были такие подписи под фотографией, предложенные читателями: «Уберите ваши танки!», «Долой агрессоров!», «Свободу не уничтожить!». Мы ходили как помешанные. Мы вовсе не собирались так, впрямую, разбойничать на странице советской газеты. Номер верстался за несколько дней до событий в Чехословакии. Вторжение прошло втайне, никто не был предупрежден, сообщение о вводе войск было дано, если не ошибаюсь, двумя днями позже. Но начальство буквально ревело! Оно усмотрело саботаж и все такое. А вы бы не усмотрели? И сколько мы ни убеждали, что ни чуточки не виноваты, что любая иная безобидная картинка в этот день рассматривалась бы именно так, нам уже не верили. Мы попросили отдел писем отдавать нам письма читателей без регистрации, потому что отлично понимали, чем это грозит нашим корреспондентам. И надо сказать, что нам пошли навстречу. Мы пачками вскрывали письма, рвали мятежные ответы и складывали в стопочки «благопристойные», не имеющие острей политической подкладки. Но начальство решило, что с этого дня за нами нужен глаз да глаз. Если раньше и удавалось «просунуть» острую или сатирическую фразу или рассказик, то теперь каждый материал посылался на прочтение по крайней мере восьми-девяти членам редколлегии, которые не пропускали ничего! Мы были на грани отчаяния. Вместо одной полосы (это примерно 24 страницы машинописного текста) я был вынужден готовить четыре полосы! А где же взять материал? Народ наш был уже избалованный, смелый, я бы сказал — наглый, все вслух обсуждали чешские события и возмущались, и сколько я ни стучал кулаком по столу, требуя, чтобы все немедленно прикусили свои длинные языки, а то нас вообще разгонят, ничего не помогало. И полосы составлялись по старой российской цензурной методе: ты даешь начальству полосу с такой, скажем, фразой: «Если бы Лев Толстой жил в коммунальной квартире, он стал бы Салтыковым-Щедриным!» Начальство морщится и просит что-нибудь другое. Ты несешь фразу: «Очереди станут меньше, если сплотить ряды». Начальство смотрит на тебя как на красную тряпку и просит принести что-нибудь другое. Ты несешь фразу: «Знаете ли вы, что пулеметная очередь доходит до прилавка гораздо быстрее обыкновенной?» Начальство зеленеет и просит чего-нибудь еще. Ik приносишь: «Допустим, ты пробил головой стену. Что ты будешь делать в соседней камере?»
— Илья, — рычит начальство. — Вы издеваетесь! Можете принести что-нибудь человеческое?
— У меня больше ничего нет, — отвечаешь ты, потупив глазки.
Начальство размышляет. Потом говорит:
— Принесите ту, первую. Тоже глупая, но не такая, как все эти.
И появляется в газете фраза о Толстом в коммунальной квартире…
На следующей неделе все повторяется сначала…
Поэтому, цитируя одну из напечатанных фраз, могу сказать: «Жаль, что я не лирический поэт. — сколько грустных дней пропадает впустую…»
* * *
Прошла уже тыща лет. И жизнь другая, и проблемы другие, и забыто многое, и лица как в тумане… Но мы вспоминаем эти дни, потому что дорога нам наша молодость и мы никак не хотим с ней расстаться. Хотя… если перефразировать старую французскую пословицу, она звучала бы так: «Если бы молодость знала, она бы и в старости могла…» Ан нет, ничего не выходит в нынешней нашей старости, потому что многие из нас, и я в том числе, лишились того, что составляло суть и смысл нашей прежней жизни, — активного в ней участия. Ведь это я отбирал для «Литературки» смешной и талантливый материал. Это я его редактировал. Это я поверил в автора. Это я пробивал его в печать. И это не я его «рубил», уничтожал, не давал увидеть свет.
Ну? Поплакали? Пострадали вместе со мной? Попереживали? Хватит. Вернемся к нашим баранам. Наши бараны не хуже тутошних. Побродим по волнам нашей памяти. Настроим наши приемники на вчерашнюю передачу. У микрофона Илья Суслов. Тема нашей беседы — вчерашний день, прошлогодний снег, вчерашнее завтра всего прогрессивного человечества.
Пришел автор. По профессии — барабанщик в оркестре. Принес рассказик. Называется «История». Рассказик такой: стоит человек и ловит такси. Снег идет. Холодно. Теккси не останавливается. Час стоит ловит, другой… Вдруг видит — на той стороне улицы другой человек стоит, тоже, видно, такси ловит. С протянутой рукой. Потрогал его герой и видит, что человек окаменел. Замерз, видно. Взвалил его на плечи, отнес домой, положил на диван. Утром жена говорит: «Ты кого, дрянь пьяная, принес вчера? Совсем упился, прохвост!» Он смотрит на диван, а там этот лежит, с протянутой рукой. Памятник с площади.
Пардон за неточный пересказ. Это я по памяти воспроизвел. У автора лучше было написано. Короткий рассказик. Строк на двадцать.
Напечатали. Начались звонки. Понеслись письма. Посыпались жалобы. От старых большевиков главным образом. Как?! На кого?! Руку?! Очумели?! Советская власть кончилась?! На Ленина?! На самого?! Сгноим!
Тертерян был спокоен. Он меня усадил в кресло. Он мне воды принес. Он был на «вы». Он был бледен, как Д’Артаньян, вручивший подвески герцога Букингемского французской королеве. Он сказал:
— Илья, из этой ситуации мы уже не выпутаемся. ЦК просит крови. Свою я отдать не могу. Мы выпустим вашу.
— Чего, чего? — залепетал я, придумывая на ходу версию. — Какую кровь? Вы шутите. Вы же гуманисты. Вы же за мир между нашими народами. Вы же за разоружение.
— Вы зачем Ленина тронули? — шепотом спросил он.
— Я? Ленина? Что я, псих? Кому надо трогать Ленина?
— Чей памятник подобрал ваш алкаш на площади?
— Пионерки! — сказал я. — Пионерки! Он ее принял за пассажира. Мы ведь с вами — за нормальную работу такси. Вот о чем рассказ.
— Пионерка?! — заорал он. — Пионерка делает салют рукой! С вытянутой рукой у нас Ленин стоит! На Ленина…
— Минуточку! — сказал я. — Почему только Ленин? А пограничник? Он стоит на бульваре и защищает границу родины.
— Я умру от вас, любезный, — сказал Тертерян. — Пограничник руку держит козырьком, всматриваясь во внешнего врага, нарушившего границу. Козырьком. Вы Ленина…
— Хорошо, — сказал я. — Пусть не пограничник. Это просто гипсовый памятник спортсмену, футболисту, Мичурину. Почему Ленину? Нам с вами и в голову не пришел Ленин. Мы с вами этот рассказ читали — не было там Ленина. Откуда появился?
Тертерян брезгливо