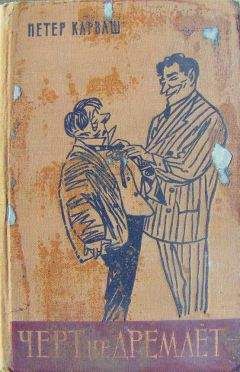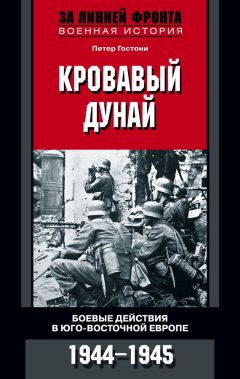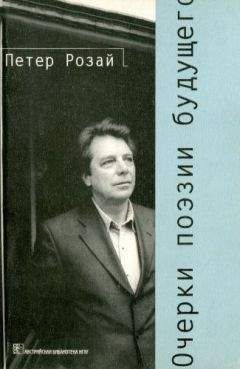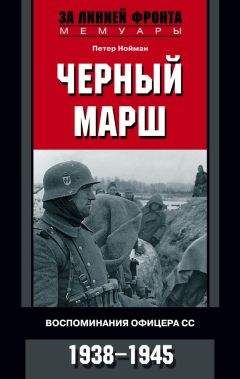— Ганс-Клёцка куда талантливее, а…
Де Грооту хотелось вступить в горячую полемику, но он вовремя осознал, что это абсолютно бесполезно. Он взглянул на маленький квадрат неба, расчерченный решёткой.
— Знаете что, Гендрик, — произнёс он нерешительно, — продайте мне тогда хотя бы рецепт красок, глазури и секрет патинирования и искусственных трещин на краске…
Прошло несколько секунд.
— Вчера, — продолжал де Гроот, — ко мне заходила ваша девушка, Лиза… Две-три тысячи были бы ей очень кстати…
Заключённый молчал.
— Как хотите, — вздохнул юрист и поклонник искусства. Он взял пальто и портфель и постучал в дверь камеры, хотя разрешённые полчаса ещё не истекли, затем вернулся за палкой с серебряным набалдашником и, — не попрощавшись, вышел так же молча, как и вошёл.
Доктор Адриен де Гроот до самого вечера был угрюм и раздражён. В середине ужина его потревожил телефон. Он сердито буркнул «алло»! — но моментально переменил и тон, и выражение лица, и даже позу, в которой стоял у массивного резного письменного стола.
— Нет, господин директор, — сказал он в трубку. — К сожалению, при всём моём желании, я не могу сказать, что добился успеха. Ваш договор я ему и не показывал. Он бы разорвал его. По-моему, он сумасшедший, а не гений. Мы должны запастись терпением… Через годик я к нему снова наведаюсь. А не получится опять, — подождём, пока его выпустят на свободу. На свободе он у меня месяца не продержится. На коленях приползёт к нам и будет как шёлковый…
Доктор Адриен де Гроот учтиво пожелал шефу доброго здоровья, положил трубку, и настроение у него стало ещё хуже. Он вернулся к накрытому столу, с отвращением отодвинул начатый ужин и протянул руку к бутылке.
Перевод И.Иванова
Джим Гарднер был счастлив: уже четвёртый месяц он имел работу с неплохим окладом и, по-видимому, надолго. Они с Барбарой сняли небольшую, но милую квартирку, а кудрявому четырёхлетнему Томми купили, наконец, кроватку на колёсиках, с сетками по обеим сторонам и задумчивым ангелочком у изголовья.
Четвёртый месяц они жили спокойно и безоблачно: разносчик каждое утро оставлял перед дверью молоко, они регулярно вносили деньги за электричество и газ, Барбара покрасила волосы и повесила на кухне занавески в горошек. Вечерами она мечтала о холодильнике и смотрела фильмы о любви. Веснушчатый, кареглазый Томми всё это время не кашлял, поправился на полтора кило и клал на лопатки всех мальчишек двора; Джим купил себе три книги и каждое воскресенье ходил благодарить господа бога: он просил его, чтобы во имя всего святого ничего не изменялось, хотя бы в течение зимы.
Джим был по профессии электротехником, специалистом по слаботочным установкам, но он не сумасшедший, чтобы не брать то, что ему давали. Вот почему он стал шофёром, да ещё в полиции. Сначала Барбара боялась, что его там обязательно застрелят, но служба была обычной, хотя и не совсем нормальной, Джим старался, и к нему относились хорошо.
Джим не смотрел в лицо людям, которых вталкивали в машину и которых сопровождали обычно двое в широкополых шляпах, с засунутыми в карманы руками. Он старался их не замечать — он не хотел думать о них. Иногда это проходило не совсем гладко, и тогда Джим клялся самому себе, что никогда не поссорится с законом, никогда не притронется к виски, даже с содой, и вырастит из Томми честного американца, чего бы это ни стоило. Он всегда пристально смотрел на дорогу, убегающую под радиатор, и старался не слышать того, что делалось за его спиной. Конечно, работа была не из приятных, но лучшей не было, а в старой квартире Томми очень кашлял.
В новой он не кашлял, стал румяным, лицо его округлилось, он играл с клоуном, прыгал на коленях у отца и в счастливые минуты, уткнув голову в колени Джима, шептал, полный страстной надежды:
— Папочка, знаешь, что мне купи?.. Купи мне слона Джумбо, такого белого, из резины, который надувается!.. Купишь мне Джумбо?
И счастливый Джим Гарднер, шофёр полиции, обещал мальчику, что купит белого слона Джумбо, купит в субботу после получки. Потом они играли в моряков и лётчиков, водолазов и индейцев, и Барбара улыбалась, размышляя, что Томми избалуется, если останется единственным ребёнком, и что его сестричку можно было бы назвать Дороти в честь артистки Дороти Лемур.
Однажды в минуту такого розового семейного счастья раздался телефонный звонок. И так как в этот момент Томми самозабвенно скакал у Джима на спине, Барбара сама вышла в переднюю и сняла трубку.
— Джим, — певуче сказала она, — это инспектор Брук.
Джим удивился, положил «ковбоя» на диван и пошёл к телефону. Минуту он слушал молча — он всегда слушал молча, — потом вернулся в комнату и сообщил:
— Наверное, что-нибудь экстренное, раз звонит сам Брук. Надеюсь, что к вечеру вернусь.
Он надел непромокаемый плащ, достал из ночного столика две жевательные резинки с привкусом ананаса, поцеловал сына и жену и вышел. На лестнице он услышал, как Томми спрашивает: «А папка принесёт мне Джумбо?..»
Мотор автомобиля не хотел разогреваться, фыркал и глох, было холодно, моросил дождь, и шестерня стартёра проскакивала. Джим нервничал и, выезжая из гаража, чуть не задел крылом за столб, тихонько выругался, нащупал в кармане жевательную резинку, сунул её в рот и вскоре почувствовал на языке сладкий привкус. Джим открыл окно, и прохладный, влажный ветер ударил ему в лицо.
Инспектор Брук и четверо полицейских уже стояли перед зданием. Они были в плащах, как и Джим, и казалось, что они всё делают и говорят как-то мимоходом, думая о чём-то совсем ином. Они расселись молча, сел и инспектор Брук и сообщил Джиму адрес. Джим включил мотор и, не сказав ни слова, поехал; он никогда ни о чём не спрашивал, ничему не удивлялся и не делал никаких замечаний — за это его и любили.
Дождь усиливался, небо над Нью-Джерси быстро потемнело. Это был неприятный вечер 17 февраля 1954 года. Как раз в тот момент, когда вспыхнули уличные огни, Джим затормозил. Машина, чуть забуксовав на мокром, асфальте, остановилась. Было семь часов.
Инспектор Брук и трое парней вылезли из машины, перешли улицу и вошли в дом напротив. Джим погасил фары и включил стоп-сигнал. Его сосед, который не вышел с Бруком, зажёг сигарету и протянул пачку Джиму; Джим поблагодарил и тоже закурил. Они сидели в вечерней тишине, молчали и курили. Машина наполнилась дымом. Капли барабанили по крыше автомобиля и стекали по ветровому стеклу, мешая смотреть. Минут через двадцать сосед Джима достал часы и сказал:
— Что-то долго… Чёртовы сопляки.
Джим ничего не ответил. Его немножко удивило, что этот человек таким странным голосом, будто через силу, говорит о каких-то «сопляках». Вряд ли это относилось к инспектору Бруку и его коллегам. Джим взглянул на него. Он знал этого человека по двум-трём выездам. Это был довольно крупный мужчина лет сорока, с худощавым, не лишённым привлекательности лицом. Когда он засовывал часы обратно в карман жилета, цепочка запуталась у него между пальцами, и Джим заметил, что его рука дрожит. Старомодные часы были немножко неожиданными у человека такой профессии.
Ещё четверть часа они сидели молча. Шумел дождь, холодный зимний дождь, к тому же поднялся ветер, так что сидящим в машине казалось, что их окатывает струёй из брандспойта.
— Что они так долго возятся? — снова сказал сосед Джима. Быть может, он ощущал потребность говорить, чтобы не чувствовать в эту минуту одиночества: он предложил Джиму ещё одну сигарету и заглянул ему в глаза. Вероятно, он завидовал его спокойствию и равнодушию или хотел понять, о чём Джим думает.
— Вы знаете, где мы? — спросил он вдруг подозрительно и, когда Джим, удивившись, ответил утвердительно, повторил громче и настойчивее: — Знаете, за кем мы приехали?
— Это, собственно, меня не касается, — ответил Джим неуверенно. Хотя этот человек и не был начальником, он мог донести Бруку.
Сосед не ответил; он заёрзал на сиденье, вытащил из-под себя полы смятого пальто и плотнее закутался в него, потом снова откинулся на спинку и сказал:
— Мы приехали за детьми Розенбергов.
Джим затянулся сигаретой и попытался выпустить дым колечками, но это ему не удалось. Дети Розенбергов… Джим выпрямился, быстро вынул сигарету изо рта, взглянул на соседа и спросил:
За детьми Юлиуса и Этель Розенбергов?..
— Да, — ответил полисмен, — за детьми казнённых Розенбергов. За Майклом и Робертом Розенберг.
«Ни о чём не спрашивай, — упорно думал Джим, — ты здесь только шофёр, и ничего больше. И при первой возможности ты снова вернёшься на фабрику. Молчи, не суйся, это не твоё дело, сиди, а когда прикажут, включай мотор, за это тебе платят деньги. Держи язык за зубами, держи язык за зубами, этим ты завоевал хорошую репутацию, за это тебя любят».