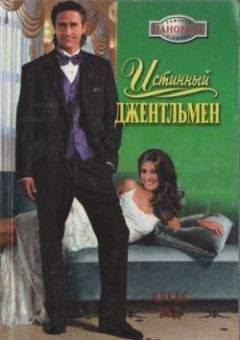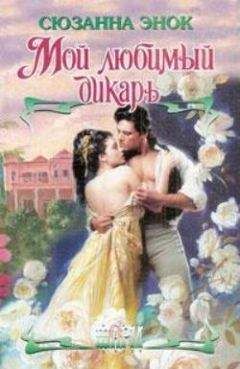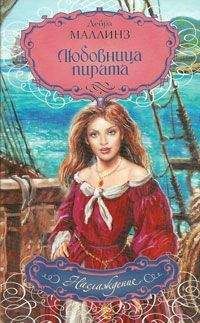Особенно аристократы. Хуже всего, что они специально приходили, чтобы мрачно поглядеть на меня.
Это было так мерзко. Когда они смотрели, как я тру стекло, и глупо хихикали, я чувствовала себя никчемной. Мало того, что я чувствовала себя человеком второго сорта, так еще и вдобавок к моей работе обычной служанки привлекли внимание... Тоскливо и по-дурацки было ужасно по-настоящему. Вы даже не представляете, что я чувствовала. Я не была в Англии за всю короткую свою жизнь и полгода, и не знала, что мне будет так мерзко.
А в замке был роскошный обед.
Я с грустью глядела сквозь измученное моей страстью к работе стекло на роскошные экипажи и разъезжающуюся после приема знать. В Англии я только служанка. Стекло взвизгивало и жаловалось, но я была беспощадна. Я действительно умею работать. И это, может быть, мое единственное достоинство. Мама всегда говорила, что я всегда все делаю с абсолютным совершенством и сосредоточением, доводя любую работу почти до абсурда качества, и даже стекло сверкает, как моя лукавая лошадиная мордашка. Но мне, зато, поэтому никогда не бывает скучно. Когда ты абсолютно погружаешься в работу, время куда-то уходит вообще, остается работа и веселое насвистывание, и, самое главное – в сердце не тягостно это делать. Такое сосредоточение в чем-то напоминает молитву.
Мари всегда говорит, что вид моей работы отчего-то вызывает в ней возвышенные мысли, потому что я делаю абсолютно любую работу, действие, задание, дело с таким сосредоточением и любовью, будто молюсь так. И что я просветляюще и благообразно воздействую на слуг, что вообще странно, ведь я такая вертихвостка. Она вообще говорит обо мне комплименты, когда нет джентльменов, что вечно крутятся вокруг нее всегда. И постоянно, издеваясь, подсовывает мне изображение святого Франциска.
Особая утонченность этого издевательства в том, что я знаю, чем я занимаюсь, и она знает, чем я занимаюсь, и Мари тоже этим занимается. Наш отец – дипломат. Это официально. А неофициально, в переводе с английского на языки других стран, где он побывал и где его помнят, это звучит как “проклятый шпион”, “дяденька уважаемая английская сволочь”, “грязный разведчик”, “вонючий агент”, “подлый тайный убийца”. Естественно, это самое лучшее, что можно писать не стесняясь, что говорят о его занятии. А вообще враги и политические противники часто говорят, что он занимается “бандитизмом”, тем, чем занимаются сукины дети, ублюдочными делами, преступной деятельностью висельников и т.д. А его помощник в этом видном занятии – это я.
Наемный убийца, называется.
Мари это сестра. Я видела из окна, как она сейчас катается на лучшем моем коне в роскошной амазонке с каким-то разодетым толстяком, пока я мою стекло в грязной одежде служанки, плюя на нее. Сквозь стекло. И тут же невинно растирая его, ведь я его мою. Мама всегда удивляется, как я добиваюсь такого чудовищного качества, что всегда хочется потрогать, настоящее ли стекло, и есть ли оно вообще. И оставить на нем свои грязные пальцы, – как говорю я. Я выросла на Востоке, и безумное мастерство и трудолюбие, стремление во всем к совершенству и любовь к труду кажется мне естественной. Чего не понимает сестра, выросшая в Англии с матерью. Здесь труд – признак второго сорта.
Из окна мне отлично видно, как сестра, которой уже восемнадцать, одетая в одежду ценой минимум тысячу фунтов и драгоценности такой стоимости, что на них мог жить целый город целый год, беседует с джентльменами и герцогами. Я снова с силой плюю на нее. Мне пятнадцать. Она видит это и тайком показывает мне кулак. В ответ я невинно растираю плевок тряпкой по стеклу, а потом, когда она успокоилась, плюю еще раз сквозь зубы с циничным видом, как типичный мальчишка сорванец с трущоб. И с таким видом, чтоб она никак не могла ошибиться.
Сестра, у которой наблюдательность куда выше среднего англичанина, злится. Окружающие ее герцог и куча золотой молодежи никак не могут понять, чем они вызвали такую злость у юной леди. А та не может объяснить. Я просто служанка, мимо которой они проходят, как мимо тумбочки. Впрочем, сегодня они не проходили, а мерзко смотрели. Что унижало меня еще больше.
А экономка еще удивлялась, почему меня тут же не убили, не наказали и не уволили.
Мне ее жалко.
Мне ее очень жалко.
Я прямо плачу.
Ей придется терпеть меня. А она меня уже терпеть не может.
Связи между другими нашими поместьями здесь нет, этот большой мы купили недавно, и она понятия не имеет, кто здесь хозяйка. И кто распоряжается всем имуществом. И кто купил этот дом. Я верю, что когда она это узнает, это ей принесет удовольствие. Пока думать об этом приносит удовольствие мне.
Настроение сегодня у меня упало до нуля. Оно и так было мерзкое, а после всего случившегося стало вообще плохим. Может, поэтому мальчонка попал под тяжелую руку. Я была слугой, служанкой, пажом, официантом, официанткой на тысячах балов и пиров в тысяче разных стран, и даже давно забыла их количество... Вряд ли даже кто-нибудь в силах представить, на скольких приемах я побывала и почему... Так что работать служанкой мне не впервые, и делать я умею абсолютно все – я работала и швеей, и вышивальщицей, и художницей, и художником, и помощником кузнеца, и садовником, и еще тысячью разных профессий, которые нужны были, чтобы проникнуть в нужный дом... Ведь на слуг никто особого внимания не обращает, а они часто в курсе всего... Слуги все слышат и больше знают... Впрочем, обычно мне не нужно было это делать надолго... Да и моим нанимателям обычно больше ничего уже не было нужно в тот же день...
Оказалось, что я забыла за приключениями, что в Англии, ханжеской снобистской Англии, я только служанка. И, вернувшись “домой” с войны, после всех переживаний, я должна была занять свое место. Так солдаты, воевавшие с офицерами бок обок, вдруг с удивлением узнавали в Англии, что они только слуги и чернь перед графами, баронами и герцогами-офицерами.
И это дурно меня поразило. Неужели они думают, что их отношения и правила поведения в стране, которую я даже не помнила, меня устраивают?
Экономка приблизилась ко мне, чтобы, наверное, поговорить со мной наедине. Она была похожа на маленького дракона. И дышала пламенем очень долго. Во всяком случае, дух рома чувствовался.
За ней шел мажордом, дворецкий, несколько слуг.
Я не поднимала глаз.
- Ты, маленькая дрянь! – сказала она мне. – Я не знаю, по какой причине граф оставил тебя в живых, и какие у вас отношения, – с гнусным намеком сказала она, и в ней чувствовалась безнаказанность долгой власти, – но я выцарапаю тебе глаза и опозорю тебя так, что ты жить не захочешь!!!
Я медленно подняла глаза.
И взглянула ей в глаза.
И она наткнулась на мой холодный взгляд и увидела распрямлявшийся гордый разворот непокорной никому и никогда головы.
Это было для нее как удар боксера. Она отлетела. Она что-то заподозрила. А зря, надо было раньше, когда мой отец стоял внизу полчаса и что-то слезно меня упрашивал, одетый графом. И это после того, что я тут натворила.
Я становилась сама собой, хоть лицо осталось тем же. Может, изменились глаза?
Она в шоке дернулась, мгновенно замолкла и отшатнулась, будто ее оглушили по голове. Я еще ничего не сказала. По лицу ее растекалось бледность, она боялась поднять глаза, рот раскрылся, губы у нее дрожали. И она тщетно пыталась что-то сказать жалостливое, глаза растеряно метались и слезились, – она, очевидно, поняла, что сильно ошиблась. Она меня дико боялась.
Я заговорила, когда они странно дрожали и переживали свою фатальную ошибку.
- Выкиньте ее из поместья, – медленно и равнодушно сказала я телохранителям, сбрасывая, наконец, надоевшую до ужаса маску веселой служанки. – И если еще раз она появится здесь, убейте ее.
Мне не надо было ни повторять дважды, ни даже больше думать о ней – я знала, что приказание будет выполнено беспрекословно и абсолютно точно, и о ней можно забыть. Я еще заметила краем глаза, как она выглядит сейчас. Хоть это было сказано тихо, у той экономки, кажется, отнялись ноги. Она что-то бормотала, но я лишь брезгливо махнула рукой, тут же забывая о ней.
Она меня не трогала – я уже давно решила ее сменить, как только увидела, как она правит и каково здесь состояние дел. Я не была бы самой собой и никогда бы не достигла с нуля такого состояния, если б не разбиралась в людях. И если б не меняла бы везде и всюду все по своему, везде расставляя специально подготовленных и подходящих к этому делу людей. Люди решают все, они наш лучший капитал – внушал мне мой воспитатель-китаец.
- Королева... – отступая, прошептал дворецкий в священном ужасе. И кинулся со всех ног прочь. Он заорал остальным в ужасе. – Это и есть их главный управляющий!!!
Экономка только обречено пискнула.
Китаец и индеец мгновенно подхватили ее под руки. Мои личные телохранители, они давно привыкли подчиняться без слов и стерегли меня так, как тысячи псов охранять не могут. Я всегда удивлялась, как можно было не замечать, что они неотрывно находятся возле меня в любой обстановке. И что они цепко следят за тем, кто приближается ко мне, кто бы это ни был, и как бы это ни было глупо. И что от них дует смертью на любого даже безобидного слугу и служанку, даже подходящую ко мне десятки раз, как бы они не старались сдерживаться и успокоиться. Они прошли без малого десятки тысяч страшных боев как шпионы и бойцы, они были тренированы на Востоке как убийцы и телохранители одновременно, и они видели слишком много убийств и смертей, чтоб совсем не видеть в обычном похлопывании по спине вгоняемый нож или отравленную иголку. Слишком уж много они убивали так сами, чтобы не вздрагивать от тех же действий по отношению к родному ребенку.