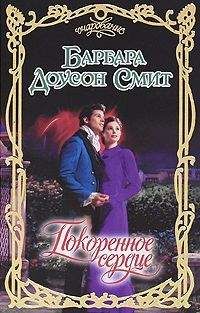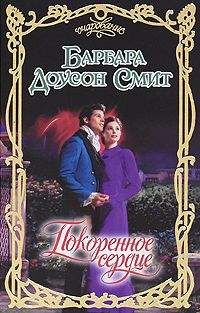Барбара Доусон Смит
Покоренное сердце
Казнить его сейчас![1]
У. Шекспир «Король Ричард III»
Лондон, конец апреля 1816 года
За годы детективной работы Саймон Крофт, граф Рокфорд, усвоил один непреложный факт: преступники всегда отрицают свою вину. Вот и сегодняшний подозреваемый не выказывал ни малейшего желания облегчить работу полиции.
Невзирая на бурные протесты преступника, Саймон методично обследовал его крошечную двухкомнатную квартирку – очень бедную и особенно неуютную в тусклом свете серого дождливого утра. На шатком столике возле незатопленного камина стояла тарелка с остатками завтрака. Из мебели здесь были всего лишь обшарпанный дубовый стол, пара мягких стульев и узкая кровать в смежной-с гостиной спальне. И множество книг и бумаг.
Где-то посреди этого хаоса скрывается улика, которая поможет упрятать Гилберта Холлибрука за решетку. Этот вор – сущий дьявол; за поразительное умение проникать незамеченным в дома богатых аристократов его уже успели прозвать Призраком.
– Это явное недоразумение, – снова сказал Холлибрук, поправив очки в проволочной оправе. – Я зарабатываю преподаванием, а не воровством.
Напарник Саймона, офицер с Боу-стрит, усадил Холлибрука на табурет посреди комнаты. Глядя на его неуклюжую долговязую фигуру в заношенном коричневом сюртуке с потертыми обшлагами, ссутулившуюся спину, бледно-голубые глаза и поредевшие седые волосы, Саймон вдруг подумал, что на первый взгляд этот негодяй кажется совершенно безобидным. Он чем-то напоминал одного оксфордского профессора, у которого когда-то учился Саймон.
Однако первое впечатление часто бывает обманчивым. Этот жестокий урок Саймон выучил еще в пятнадцать лет, когда у него на глазах убили отца.
Продолжая игнорировать протесты злодея, Саймон начал простукивать половицы грубого деревянного пола в надежде обнаружить тайник. Призрак подозревался в целой серии ограблений, следовавших беспрерывной чередой в течение уже двух месяцев. В последний раз драгоценности пропали из спальни матери самого Саймона.
Ему вспомнилось растерянное, потрясенное лицо матери, и гнев вспыхнул в нем с новой силой. Как будто у нее было мало страданий! «Без доказательств его вины я отсюда не выйду, – подумал Саймон, – даже если для этого понадобится разобрать весь этот дом до последней доски».
– Я написал множество научных работ, и некоторые из них даже опубликованы, – снова заговорил Холлибрук. – Если вы позволите, я покажу вам кое-что из своих трудов…
– Ваши труды мне известны. – Саймон подошел к кожаному сундуку, стоявшему возле окна, из которого была видна лишь почерневшая от сажи кирпичная стена соседнего дома. – В том числе «Путеводитель по Шекспиру».
– Нуда, конечно! Вот видите: я не мог совершить этого преступления. Все это ужасное недоразумение, ошибка.
Саймон открыл сундук и вдохнул слабый аромат лаванды. Внутри лежало несколько предметов женского туалета, что было неудивительно, поскольку у Холлибрука имелась взрослая дочь. Девушка работала преподавателем в пансионе в Линкольншире. Благодаря этому обстоятельству Саймон не рассматривал ее как возможную соучастницу преступлений.
– Никакой ошибки нет, – холодно возразил он. – Каждый раз на месте преступления полиция находит цитаты из Шекспира.
– Так вы думаете, что я… если я изучаю наследие Шекспира…
– На месте последнего преступления вы обронили счет из лавки. И там был указан ваш адрес.
Холлибрук весьма натурально изобразил шок:
– Но это абсурд! Где этот дом? В Мейфэре? Я не бываю в этом районе. Наверное, счет выпал из кармана мальчишки-разносчика. И, к несчастью для меня, как раз в том доме, который ограбили.
– Это не все. Мне известно, какие отношения связывают вас с маркизом Уоррингтоном. Я знаю, что вы охотились за приданым его дочери и даже склонили ее к браку. Видимо, обманувшись в своих надеждах, вы решили мстить всему отвергнувшему вас сословию.
Холлибрук побледнел. Его длинные пальцы с пятнами чернил вцепились в края табурета. Испуг, тревога и горечь попеременно отражались у него на лице.
– Так вот оно что. Значит, теперь Уоррингтон решил погубить мое доброе имя. Странно, что он взялся за это столько лет спустя.
Саймона нисколько не тронули эти слова. Когда-то Гилберт Холлибрук сделал попытку примкнуть к великосветскому обществу, но был отвергнут. Вероятно, он относится к тем людям, которые не забывают обид.
Саймон присел к столу, заваленному бумагами. На стопке с книгами стояла фаянсовая кружка с остывшим чаем. Саймон принялся выдвигать ящики, тщательно просматривая их содержимое: запасные перья, чернила, перочинный нож, моток бечевки, дешевая писчая бумага… И, наконец, в дальнем углу самого нижнего ящика, он увидел то, что искал. С первого взгляда Саймон безошибочно узнал бриллиантовый браслет своей матери. Издав победный возглас, он извлек его на свет.
Как безумен род людской![2]
У. Шекспир «Сон в летнюю ночь»
Спустя две недели
«Если они сейчас же не сменят тему, у меня случится истерика. Ужасная, непозволительная истерика, которая раскроет мое инкогнито и спутает все мои планы».
Сцепив на коленях руки, затянутые в перчатки, женщина, известная здесь под именем миссис Браунли, сидела в бальном зале поблизости от группы сплетничающих матрон. Шумный бал был в разгаре. Сотни свечей мигали в настенных и потолочных канделябрах; сквозь стекла очков, которые девушка надела, чтобы казаться солиднее, очертания фигур и предметов казались расплывчатыми. В толпе знатных гостей сновали лакеи с серебряными подносами, предлагая гостям шампанское и пунш. В воздухе витали ароматы дорогих духов, в дальнем конце зала оркестр на галерее под сводчатым потолком играл божественную музыку.
Клер впервые оказалась в подобном месте и, к своему удивлению, с наслаждением окунулась в праздничную атмосферу бала. Свет, музыка, ароматы – всё вплоть до последней минуты доставляло ей радость. Ей безумно хотелось принять участие в общем веселье, вместо того чтобы томиться у стены в роли наемной компаньонки. У нее даже мелькнула крамольная мысль, что, сложись обстоятельства иначе, она тоже могла бы вырасти в этом мире богатства и привилегий.
Однако сегодня Клер находилась здесь для того, чтобы присматривать за юной ветреной красавицей леди Розабел Лэтроп, белое платье и золотая головка которой то и дело мелькали в шеренге танцоров на паркетном полу. Предполагалось, что миссис Браунли в свои немолодые уже годы – целых двадцать пять лет – имела достаточно твердости и благоразумия, чтобы опекать юную девушку.